
Бриллианты на свадьбу

Бриллианты на свадьбу
Как ни сердился придворный актер Сила Николаевич Сандунов, как ни доказывал, что все это злобный навет, но досадный слух продолжал бродить по Москве: о том, что новые бани в Неглинном проезде будто бы подарены его жене Елизавете Семеновне не в меру усердными почитателями ее певческого таланта. Сила Николаевич не сомневался, что слух пришел из Петербурга. Даже догадывался, кто его пустил.
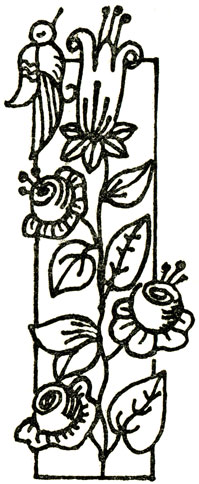
О московских банях
Самое досадное, что доля правды в обидном слухе все-таки была. Бани, конечно, никто не дарил. Но построишь ли дворец с умеренного актерского жалованья? Сила Николаевич и в лучшую пору не получал больше тысячи двухсот рублей, а несравненная, обаятельная Елизавета Семеновна и того меньше - восемьсот.
Строго говоря, Сила Николаевич уже и не был придворным актером, когда принялся строить бани. Это было отошедшим почетным прозванием, людской и его памятью, дававшей и славу и заработок. Как ни противились Сандунов и его жена, им пришлось уйти с императорской сцены, пришлось даже уехать из Петербурга. Но не будь этих его неприятностей, не было бы в Москве Сандуновских бань. А не будь Сандуновских бань - как ни оскорбительно это для знаменитых актеров, любимцев публики, владевших сердцами зрителей в обеих столицах, - вряд ли сейчас, почти два века спустя, знали бы люди о такой фамилии - Сандуновы. Забыты имена еще более громкие.
...Юный канцелярист мануфактур-коллегии Сила Сандунов отличался характером живым и общительным. Он занятно рассказывал о кавказском прошлом своей фамилии. Правда, знал о нем только понаслышке - от деда своего, Моисея Сандукели, знатного грузинского дворянина, того, что приехал в Россию с самим царем Вахтангом VI, да так и прижился в Москве. Купил здесь дом да поместье, стал жить гостеприимно и весело. И сын его, Николай Моисеевич - уже Сандунов, не Сандукели, - был человеком зажигательным, однако надолго его не хватило: почти начисто разорился, умер молодым, оставив двух малолетних сыновей. Старшему - Силе - шестнадцать тогда было, отец едва успел в канцелярию устроить, а младшему - Николаю - и вовсе три. Промотавшиеся предки, однако, оставили обоим потомкам превеликое достояние: неунывающий нрав. Наследники неплохо им воспользовались!

Сила Николаевич Сандунов
Двадцати лет от роду Сила Сандунов впервые попал на представление в театр. Его больше всех позабавил актер, игравший пронырливого слугу - превеликого плута. Невысокий худощавый черноглазый юноша заразительно хохотал на весь зал, обращая на себя внимание всей публики. Рассказывают, что он сразу же после спектакля так и заявил: "Да я и сам не хуже этого сыграю!"
Самое поразительное, что это оказалось не просто хвастовством: в тот же год он сделался актером, был принят на службу в тот же театр. Первый раз он вышел на сцену в комедии Княжнина "Чудаки" в роли слуги по имени Пролаза. С тех пор и до конца своей актерской жизни он больше всех ролей любил комические - пронырливых плутов, они удавались ему отменно. Подвижный, ловкий, он держался непринужденно, был смел и на сцене, и в жизни, умел в трудную минуту найтись - театральное счастье словно само искало его.
Через семь лет он попался на глаза председателю только что созданного в Петербурге особого театрального комитета престарелому графу Олсуфьеву, который за год до смерти затем и приехал в Москву, чтобы, если найдется, переманить в придворный театр занятного актера. Один из приближенных Екатерины II, ее статс-секретарь, граф Адам Васильевич Олсуфьев, слыл знатоком истории, права, древних и новых языков. И даже поэтом, хотя стихи свои он почему-то печатать не решался. Царица в ту пору к театру благоволила, особенно ставшей модной комической опере на манер итальянской. В своих царских досугах она и сама грешила сочинительством. Имея представление о деревне лишь из окна кареты, писала "оперы" из крестьянской жизни.
То была большая удача - понравиться приезжему вельможе. Граф Олсуфьев пленился Сандуновым, тут же после спектакля предложил место в придворном театре. Легкий на подъем, Сила Николаевич не замедлил с переездом в Петербург. Его быстро полюбила и столичная публика. Эрмитажный театр, где он часто играл, посещало одно только высшее общество. Зрители приглашались туда по чинам, пускали безденежно, только должно было соблюдать правила: перед вечерним куртагом непременно испить стакан холодной воды, дабы не икалось, да трости и шляпы оставлять за дверьми, и еще - не иметь пасмурного вида, не горячиться и не спорить.
Особенно публике пришлись по душе шалости нового артиста, его умение с невинным видом произносить соленые вольности. От них, закрываясь веерами, рдели дамы, а кавалеры откровенно веселились. Один из суровых критиков называл это "бесчинным промыслом рукоплесканий". В рукоплесканиях действительно недостатка не было. Интерес вызывала и частная жизнь молодого артиста. Рассказывали о бесчисленных победах красавца повесы. Изображая на сцене плутов-слуг, которые помогали в любовных похождениях своим господам, Сила Николаевич в чужой помощи не нуждался и в озорных проделках был неукротим.
Тут же всему Петербургу стало известно и то, что он наконец по-настоящему полюбил - молодую певицу Лизу Федорову, воспитанницу театрального училища. Впрочем, тогда ее уже звали Лизавета Уранова. Так в монаршем своем благоволении приказала ее называть сама императрица. Та побывала на ее дебюте, пришла в восхищение "от чистого, как хрусталь, и звонкого, как золото", голоса начинающей оперной актрисы и от редкой ее привлекательности. В ту пору модных артистов еще не называли звездами, но императорский псевдоним родился именно от сравнения с планетой Уран, которую незадолго до того нашли на небе и о которой тогда во всех гостиных только и говорили.
Лизанька Уранова, прослыв любимицей Екатерины, была тут же окружена восхищением. Ей устраивали овации гвардейские офицеры, в ее уборную выразить свое восхищение приходили молодые и старые обожатели. Воспылал к ней страстью нежной и приближенный Екатерины, осыпанный ею всеми милостями - чинами, поместьями, орденами, - Александр Андреевич Безбородко, в свои сорок четыре года действительный тайный советник, гофмейстер и вице-канцлер. Только графское достоинство он получил не от своей царицы - от римского императора.
Но всех их обошел безродный актер Сила Николаевич Сандунов. Он нашел к ней доступ, предложил ей не только сердце, как это делали многие, но и руку. Уранова согласилась. Ах, думал ли заносчивый царский фаворит, граф римский, а вскорости и светлейший князь российский, великий баловень судьбы, сын переяславского обозного, ставший канцлером, что имя его будут помнить разве лишь специалисты, а в историю Москвы он войдет в одной лишь связи с Сандуновскими банями, которые возникнут двадцать лет спустя. По иронии судьбы именно то, что Сила Николаевич Сандунов посватался к Елизавете Семеновне Урановой, и привело к тому, что в Москве появились самые знаменитые бани.
Любовные события развивались на виду у всего Петербурга. О них долго потом весело вспоминали со всеми пикантными подробностями.
Граф Безбородко решил свадьбе помешать. Ему содействовали директора придворного театра. Их было тогда двое - Петр Александрович Соймонов и Александр Васильевич Храповицкий. Это через них вельможа то соблазнял артистку золотом, то принимался запугивать. Когда и то, и другое не помогло, Сандунова уволили со службы, чтобы спровадить из Петербурга.
Но прежде чем уехать, комический актер решил вполне серьезно помериться силой с первейшим фаворитом и отважно бросил ему вызов, публичный, скандальный. Надо отдать должное Сандунову: играя в последний раз, как повелось, роль плута-слуги в комедии А. И. Клушина "Смех и горе", он проявил ловкость и отвагу. И дальновидность: верно рассчитывал на ревность стареющей царицы, которая не всегда спокойно сносила проделки прежних своих любимцев.
Рассчитывая на дружескую поддержку, Сандунов наведался к давнему своему приятелю драматургу Александру Ивановичу Клушину, который выбился в люди из Твери, - всего лишь подьяческий сын, а вот при дворе ходить стал. Они вместе "рацею на счет дирекции" написали. На прощальном бенефисе в костюме слуги Семена Сандунов и сказал эту "рацею" публуке:
Служа комическим и важным господам, Не им я был слугой, а был я вам...
Потом объяснил, почему он покидает сцену:
...И я, не вытерпев обидных столь досад. Решил броситься отсель хотя бы в ад, Моя чувствительность меня к отставке клонит, Вот все, что вон меня отсель с театра гонит.
Конечно, актер Сила Николаевич Сандунов не имел твердых планов, но хотел бы быть там, где
...графы и бароны - не сыпали моим Лизеттам миллионы И коим сердцам златой не делали бы мост.
Зал взорвался от аплодисментов и хохота: намек был отлично понят. Известие о проделке Сандунова дошло до царицы, которая на следующий день была в Эрмитажном театре, где давали новую оперу "Федул с детьми". Либретто написала сама царица и потому на премьере собрался весь двор. Роль Дуняши играла Лизавета Уранова. Присочинять что-либо к монаршему тексту ей не пришлось. Счастливо случилось так, что жалостная ария Дуняши "Во селе, селе Покровском" давала возможность откровенно поведать о собственной беде актрисы:
Приезжал ко мне детинка Из Санкт-Петербурга сюда; Он меня, красну девицу, Подговаривал с собой; Серебром меня дарил, Он и золото сулил. Поезжай со мной, Дуняша, Поезжай, он говорил.
Лизавета Уранова, исполняя арию, не сводила заплаканных глаз с царицы. По рассказам очевидцев, Екатерина пришла в восхищение от любимицы, ободряюще кивала ей, улыбалась. Это, конечно, не ускользнуло от публики, а те восторженно аплодировали певице. Царица бросила на сцену припасенный букет. И тут произошло нечто такое, чего не было в монаршем либретто. Дуняша, поцеловав букет, выбежала к ложе, упала на колени, достала из корсажа смятую заготовленную бумажку и протянула ее Екатерине: "Матушка-царица! Спаси меня".
Сначала публика замерла в испуге, перестала хлопать в ладоши. Но когда Екатерина что-то сказала Соймонову и догадливая публика быстро сообразила, что царица повелела ему взять прошение у актрисы, то все посветлели и зал с облегчением принялся аплодировать пуще прежнего.
Царица была не только писательницей, но и актрисой, только не комической: она прекрасно сыграла роль благодетельницы и заступницы. Екатерина повелела привести в свой кабинет молодую певицу и ее жениха, подняла их с колен, усадила рядом, выспросила обо всем. Разгневавшись, повелела написать указ, которым сместила обоих театральных директоров за участие в сближении воспитанницы театрального училища с графом Безбородко и взялась быть посаженой матерью.
Через несколько дней Уранова и Сандунов венчались в придворной церкви.
Это был настоящий спектакль, который поставили по либретто самодержицы. При одевании невесты пел хор. Присланные царицей придворные актрисы звучными голосами пели на редкость нескладную песню, сложенную специально для торжества самой императрицей.
Гости делали вид, что не знают имени автора, и громко восторгались песней. Автор между тем находился и при одевании невесты, и при венчании. Слуги внесли кованые сундуки с приданым. Новобрачные, открыв утром сундуки, ахнули: поверх атласа и гранитура, так тогда называлось колье из бриллиантов, искрились бриллиантовые же броши и серьги. Было там и золото. И листок бумаги со свадебной песнью, написанной собственноручно монархиней.
Другие бриллианты, прямо связанные с будущими Сандуновскими банями, оказались в руках молодоженов спустя несколько дней после свадьбы. Елизавета Сандунова пела на сцене снова - в опере "Редкая вещь". История героини и на этот раз давала повод намекнуть на дело с посрамленным графом Безбородко, и, актриса, наслаждаясь мщением, полной мерой воспользовалась этим. Исполняя арию, она совсем близко подошла к ложе, где сидел посрамленный граф, и, протянув кошелек, спела специально для него:
Перестаньте льститься ложно И мыслить так безбожно, Что деньгами возможно В любовь к себе склонить. Нам нужно не богатство, Но младость и приятство...
Аналогия, честно говоря, все-таки не была полной; Сандунов тоже не был юношей - тридцать пять лет. Однако публике, знавшей всю историю, выходка певицы понравилась. Все захлопали. Граф тоже. Вместе со всеми он не унимался, пока актриса не повторила арию. А утром от него и пришел щедрый подарок - шкатулка с бриллиантами.
Сандуновы, однако, рано торжествовали победу. Новый директор князь Николай Борисович Юсупов отомстил за Безбородко сполна. В течение трех лет он искусно ссорил супругов, публично называл Силу Николаевича развратником и пьяницей, притеснял их, лишал бенефисов и ролей. Не видя на сцене своей любимицы, царица легко забыла о ней. Не помогло и многословное, слезливое прошение, посланное "великой благотворительнице, всеавгустейшей монархине", в котором они сообщали о великих своих мытарствах.
Артистическая чета подала прошение об отставке и решила от греха подальше уехать в Москву. Вернувшись вместе с женой в свой старый театр, Сила Николаевич снова играл будто с увлечением, однако было оно заемным - наслаждение успехом омрачалось сознанием зыбкости пышного показного актерского счастья. Он уже видел нечто более основательное и доходное, чем слава.
На проданные царицыны бриллианты он недорого купил землю у только что осушенного, скрытого в земле Самотечного канала, как в ту пору еще называли Неглинную улицу. Незадолго до этого речку взяли в трубу, она потекла в кромешной тьме, под образовавшеюся улицей, и места здешние, хотя и расположенные близко от лучших домов города, считались до тех пор чуть ли не окраинными, заброшенными. Сами Сандуновы жили сначала в домике у Китайгорода (на месте нынешнего сквера против "Метрополя"), а потом перебрались в новое владение. Поначалу земли было не так много: всего тысяча триста квадратных саженей. Как можно судить по достоверным документам "Комитета для управления городских повинностей", там стояло "каменное жилое строение в два этажа", еще одно "об одном этаже", одно деревянное жилье "об одном этаже" и такое же нежилое, да еще сад и "пустой двор незастроенной земли".
Новый владелец повел себя как-то странно. Перво-наперво он сломал каменное жилое "двухэтажное строение в два этажа". Потом разобрал и деревянное жилое "об одном этаже". Сосед - титулярный советник Николай Григорьевич Дронов - смотрел на проделки бывшего придворного комика с ожиданием чего-то смешного: может быть, чудит, как и на сцене? А потом титулярный советник вдруг сам продал артисту свое крохотное владеньице в тридцать саженей с деревянным жилым домиком. Как свидетельствовал "депутат, коллежский асессор" Николай Юрьев, и это "строение все без остатку сломано, а земля оставлена пустая". Соседи мучились в догадках: что задумал? Не чудит ли? Сандунов не открывался и продолжал действовать: по дешевке купил участок сторожа соседнего Успенского собора Петра Михайлова. Там был двухэтажный дом - сверху деревянный, снизу каменный, и еще один деревянный. И это было сломано, а "земля осталась пустая". Это обстоятельство отметил в документе и "сличил землемер Евреинов". Последним сдался звонарь того же Успенского собора Михаила Кудрявцев. Сандунов разрушил и его три дома. А "земля осталась пустая"...
В Москве посмеивались: сильно разозлили Силу, коли он принялся рушить все подряд. Так пусть бы и ломал в Петербурге - при чем же здесь Москва? Не здесь же его обидели?
Владение Сандунова выросло вдвое, да только смех это, а не владение: огород и пустая земля - с улицы остался один дом, где живут артисты, откуда вечерами в театр ездят.
Стали, однако, обращать внимание, что артисты с некоторых пор ездить стали почему-то поодиночке. И в театре, перед представлением, слова друг дружке не скажут. А потом словно помирились.
Мало кто знал, из-за чего ссорились супруги и как они помирились. А все дело было в безбородковских бриллиантах, полученных после свадьбы. О них Сила Николаевич и слышать не хотел, видеть их не желал, Елизавета Семеновна, однако, продавать их не соглашалась. По чести говоря, те царские тоже были жалованы ей одной - ну уж ладно, землю купили. А шкатулку граф прислал ей. Сила Николаевич сердился, не разговаривал неделями, намекал даже, что не зря, видать, говаривали всякое, про нее и про графа. Елизавета же Семеновна красивым грудным голосом ссылалась на князя Юсупова - не зря, видать, говаривал князь и про Силу Николаевича, что он и гордец, и распутник, и пьяница. Вот даже домой ночевать иной раз не ездит. Будто бы в карты играет.
Кончилось, однако, миром. Чтоб избавиться от ненавистных безбородковских бриллиантов, решено было часть из них отдать в Воспитательный дом сиротам. Так всем и объявить, пусть знают, что Сандуновы не желают хранить такое добро, от которого одно худое. А другую продать. И построить бани. Самые большие в Москве. Богатые и красивые. Раз без простонародного отделения не обойтись - так требуют правила, то построить и простонародное. А главное - дворянское отделение и с зеркалами, и с мягкими диванами. Ну что это за дворянское в банях, в Грузинах-то! Срам, и никакого сравнения с петербургскими.
Сандунов не раз бывал в Грузинах. Поблизости от этих бань когда-то жил он сам - дед, Сандукели, поселился как раз здесь. Сказывали, что грузины - из-за них так и называли улицу, - грузины построили свои бани, какие у них в Тифлисе водятся. Но скоро Сандунов узнал, что в Тифлисе, где он ни разу не бывал, бани не такие.
Повстречался он в Москве с земляками деда - только что из Грузии приехали, сам их разыскал, к себе водил и в театр. Особенно подружился с грузинским поэтом Гавриилом Ратишвили - тот ни одного представления не пропускал. И занятно про тифлисские бани рассказывал. Там горячая вода сама из земли бьет, никто не греет - из земли уже горячая идет, да не простая. Глубокая, большая яма посредине. Люди в ней стоят, разговаривают, греются, потом ложатся на скамьи, их перчаткой натирают, а мыло взбивают полотняным пузырем. Сила Николаевич с трудом представлял себе - он привык к русским парным баням и не знал, что может быть лучше того, чем постегать себя разморенным в горячей воде березовым веником и окатиться потом холодной водой.
В скольких банях побывал Сила Николаевич - и в черных, торговых, простонародных, и домашних, семейных, белых, в домах богатых людей. В ту пору Николай Михайлович Карамзин написал, что в далекую старину славяне мылись будто бы всего три раза - при рождении, перед свадьбой да после смерти. Теперь русские люди мылись не меньше раза в неделю.
Сначала, говорят, только в печах мылись. Когда истопят печь пожарче, например, под хлебы, то как вынут их, возьмут воду, нагретую загодя, настелют под соломою, веник прихватят, распаренный до мягка. Для хорошего духу - небольшую посудину с квасом. А ежели жених или невеста перед свадьбой - то с пивом: еще запашистее. Улегшись в печи как способнее, велит человек заслонить за собой устье печи, прыскает по сторонам и поверху квасом ли, пивом ли. Всего лучше пучком соломы прыскать. Потом ее в воду окунуть и прыснуть снова - пару поддать себе, сколько надобно, а потом уже и париться. Выходит разопрелый человек из печи в сени или во двор - холодной водой окатиться. Непременно надо полежать потом - на лавке или на полу, на соломе. Отдохнув, помыться у печи со щелоком, а ежели опять на теле зуд почувствует, снова в печь лезть и париться в другой раз. Кто по старости или по болезням немощен бывает, так что сам в печь не в силах взлезть, то другие укладывают его на доску и как хлебы вдвигают. За ним полезает другой человек, чтобы парить и мыть слабого и дряхлого.
Но только народ все больше в бани ходит. Какие в деревнях, такие и в Москве на огородах ставят. Непременно у пруда, дверью у самой воды, с высоким, по колено, порогом и низким косяком - чтобы жар не исходил понапрасну.
В углу каменка - очажок, а на нем груда булыжного дикого камня, каким улицы мостят. С другой стороны - полок для парения. Под порогом - маленькое пустое оконце, чтобы вода на волю сходила. Сквозь нее и свет. Кто хотел париться в бане, так сам и топил - дым выходил вон из двери. Когда каменка прогорала совсем, только тогда и приходили мыться. Приносили ушатом горячую воду и щелок, брали с собой шайки и веники. А холодная вода всегда есть - за порогом стоит, в пруду. Летом и зимой раздевались на открытом воздухе, влезали в баню нагишом. Можно было мыться и вдвоем и втроем, однако париться по одному. Для того плескали воду на каменку - пар поддавали. Если он ослабевал - еще подкидывали воды. Кто парился, тот и плескал себе. Разгасившись и ослабев, вылезал человек из бани и - в пруд. Потом на траву ложился, если лето, или на снег, если зимой.
То были деревенские черные бани - потому что без трубы и были изнутри черные от дыма и копоти. Потом стали ставить и торговые бани. Торговые прозываются потому, что за мытье две копейки брали, как бы торговали мытьем. Много таких бань в Москве развелось. Один купец, Семен Борисов, в 1798 году взял у казенной палаты на содержание тридцать гнезд. Взял "на кондиции" бани Бабьегородские, Вишняковские, Драгомиловские, Самотечные, Якиманские, Трубенские, Пресненские, Андроновские, Потешные, Кудринские, Краснохолмские, Кожевнические, Спасские, многие другие - всего тридцать бань, и каждые либо у Москвы-реки, либо на другой речке - Неглинке, Хапиловке, Рожке, Яузе, либо на пруде.
Московский градоначальник строго наказал: "Сбор в означенных казенных торговых банях с приходящих на парения всякого звания людей сбирать соответственно указу правительственного сената не более как две копейки с каждого". Впрочем, дозволялось и больше: "Если для благородного звания сделать пристройки при банях с удобными для того парению, то за пар цену положить добровольно за ту услугу и за то в притязание не поставить, а в противном случае за принуждение сверх положенного за пар противному закону поступку подвергать суровому наказанию".
Видать, и две копейки за парение были деньги немалые - Семен Борисов обязался платить казне по семнадцать тысяч рублей в год и, надо полагать, в убытке не оставался.
Но те тридцать бань были казенные, однако многие купцы давно уже поставили собственные торговые бани. Самые старые и любимые в Москве, что держал Суровщиков, назывались Каменновскими - и оттого, что у Каменного моста стояли, и оттого, что только они и были строены из кирпича.
Задумав бани, Сандунов побывал в Каменновских приглядеть, как они устроены. Заметить, что нравится публике и без чего нельзя обойтись в его будущем заведении.
У самого края набережной Москвы-реки высоко стояли два одинаковых строения, а между ними - огромный чан с водой. Ее поднимали бадьями из реки и направляли сюда по деревянным желобам. Оттуда она по желобу же шла в оба строения и в котел для подогрева. Погруженный в печь горячий котел находился тут же, беспрерывно подогреваемый. Он был накрыт толстым деревянным кругом с четырьмя круглыми дырами, из них шайками черпали кипяток: из двух мужчины, из двух других - женщины, которых разделяла тесовая загородка.
Этим заборчиком отделялись друг от друга дворы женский и мужской. Над котлом нависала крыша, защищая черпающих воду людей от дождя и снега. В оба двора, разделенных наглухо пополам, вдавалась бревенчатая сторожка. Здесь раздевались, оставляя одежду на лавках. У входа сидел сборщик денег за сторожбу. У кого водились денежки, отдавали одежу и обувку на хранение ему. Он клал все в ларь и запирал на большой замок. Еще несколько сторожей ходили между лавок и смотрели, чтобы не было шалостей и воровства. Ходил с ними и цирюльник, громко выкрикивая:
- А вот кого побрить, поголить, усы поправить, молодцом поставить. Мыло есть грецкое, а вода москворецкая!
Возле двери лежал ворох веников - выбирай любой. Сторожа ходили тепло одетые - дверь стояла отворенной весь год, а изразцовая печь не топилась - служила украшением. На банном дворе вдоль стен сторожки и забора стояли лавки для мытья, а возле чана - гора шаек. Парились в обоих каменных домах. Через окно входил желоб с холодной водой. У дальней стены - высокий полок - там можно сидеть, но не разгибаясь. Вели наверх ступени. По ним взбирались с веником, на них сидели любители долгого жаркого мытья. Посреди здания - четырехгранный каменный столб, вокруг него - широкие лавки высотой по грудь, по стенам - скамьи пониже.
Каменку топили длинными легкими, но пылкими дровами. Такими считались еловые и сосновые - прогорают, оставляя мало угля, а значит, не дают сильного угара. Дикий камень нагревался чуть не докрасна, а черный дым выходил сквозь растворенную дверь. Топились бани четыре раза в неделю: понедельник, вторник, четверг и субботу. Стояли холодными во все церковные праздники - грех мыться тогда. Разжигали каменку два раза на дню, потому что утреннего топленья до вечера не хватало от беспрестанного поливания водой. Уже к полудню так устывает, что и нежнотелым не охота париться даже в самой глуби полка. Утренние бани отворялись в благовест, к заутрене, а вечерние - чуть пораньше вечернего звона.
При входе на банный двор сиживал с ящиком сборщик - брал банное. Бедный люд двумя копейками и обходился. Шли всем семейством, сразу шли мыться, а кто-нибудь оставались стеречь одежду. Скупые люди много мыла с собой не брали - подбирали кинутые другими обмылки. И парились опарышами - вениками, что другие побросали. Богатый народ раздевался поближе к сторожу. Надежнее, да и не надо своего сторожа ставить, а потом ждать его, когда напарится и намоется, за это доплачивали сборщику еще две копейки или три.
Зимой и летом, в ненастье и ведро - все было одинаково. На открытом дворе раздетый выбирал себе хоть одну шайку, хоть три, черпал из котла горячую воду, распаривал в ней веник. В самой бане брал в чане холодную воду и влезал на полок потеть и париться. Вдоволь настегавшись, окачивался холодной водой, выходил во двор на лавку отдыхать или мыться. Иные, разопрев, кидались в Москву-реку. Зимой в прорубь сигали, как ни был велик мороз, потом опять опрометью по снегу в баню бежали.
Сандунов прикидывал: Неглинную в трубу схоронили, придется пруд вырыть. Два пруда - отдельно для женщин, отдельно для мужчин. А еще недавно совсем просто было: люди всякого пола и возраста мывались и паривались вместе - бабы к одной стороне, мужики - к другой. И никто не осмеливался высказать какую-либо наглость, иногда, бывало, только словом потешным перекинутся. А если кто озоровать начнет - мигом неучтивца выволокут вон, а сторож и содержатель так поддадут, что в другой раз смирным будет. Только перед самым отъездом Сандунова в Петербург, в придворный театр, как раз перед тем, как граф Олсуфьев в Москву наезжал, устав благочинный вышел - строго запрещалось "мужскому полу, старее семи лет, входить в торговую баню женского пола и женскому полу - в торговую баню мужского пола, когда в оных другой пол парится". Тогда в одних банях переставили печь с водой из угла на самую середину, чтобы и мужчинам и женщинам доступна была. А в другие стали мужчин пускать только в утренние часы, а женщин - в вечеровые. У женщин утром дел полным-полно, а мужикам всегда свободнее.
Только устав благочиния хозяйским баням не указ. В Москве тогда обширных дворов было много и домашних бань имелось во множестве. Богатые люди строили их удобно, с прохладными предбанниками - для отдыха и мытья тоже с паром, да еще с одной либо двумя чистыми комнатами. Стены внутри обшивали только липовой доской. Полок и лавки - тоже липовые, белые да гладкие. Подходы на полок - с точеными поручнями да с резными балясинами. Воду - холодную и горячую - пускали по трубам деревянным. А печи и каменки выводились изразчатые, с медными заслонками. Для отдыха в предбанник тюфяки постилали с чистым бельем, хорошим. Комнаты для раздевания всякой мебелью снаряжались, иные с картинами.
И тапливались такие бани только по-белому: дым через каменку выходил весь в трубу, а в помещение не пускался. Баня знатных господ чиста была и опрятна. Обыкновенно перед тем, как баня должна была топиться, хозяин извещал о том всех своих родных и приятелей. Иногда соседи прашивали хозяйского позволения топить себе и приходили с собственными дровами и собственной прислугой - для заготовления воды. А мыться ходили, как и встарь, семьями - старые и малые, мужчины и женщины мылись и парились все вместе. Дескать, между родными какая это неблагопристойность. Одно за домашними банями неудобство - тапливались лишь по субботам...
Сила Николаевич все изучил, обо всем подумал. Будут его торговые бани белые, чтобы топились, как все торговые, - четыре дня в неделю, а если перед праздником, то и пять и шесть - как придется. Отдельно женские поставит, отдельно мужские. Без перегородок там всяких, каждые - свой дом. Четыре дома понадобится: мужские простонародные и женские, мужские дворянские и женские. И предбанник под крышей со стенами будет. Если уморился - иди в пруд сигай, вот тебе и прохлада. Особенно хороши дворянские будут - скамейки мраморные поставит, диваны мягкие, парильщиков лучших отовсюду переманит. Плату в дворянские - какую захочет, такую и поставит. Вот придут - лучший банный дом в Москве, за двугривенным богатый человек не постоит.
Плохо, что в простонародные больше двух копеек нельзя. Все равно и простонародные надо позанятнее сделать - если чисто и ладно, всяк придет, даже с Замоскворечья. Две копейки здесь, две копейки и там, а ноги свои, нанимать не надо. Придут непременно, особенно человек постарше - там в зимнее время лед между сторожкой и горячим котлом, поскользнуться можно. Чтобы не скользко было ходить голым людям босыми ногами, там золою лед посыпают, а у него, в Сандуновских (так и назовет их - Сандуновские бани) досками гладкими пол в теплой бане выстелет. И у него, в Сандуновских, парильщик будет и мыть и парить желающих: мочалом, соленым медом, тертою редькою, чистым дегтем - как и у других. Все что пожелают! И срезывать мозоли, править животы, спины - все здесь будут.
С мужиками надо сговориться, чтобы веники вовремя запасали. Только тогда, говорят, они лекарственные и пользительные бывают, если веник режут на меженях - около времени летнего поворота солнца, когда полевые деревенские работы либо на неделю, либо на две перемежаются. К тому времени, знатоки так говорят, молодой лист на березе достигает полной своей поры. Не всякая береза к этому делу пригодна - одна веселка, с ветками тонкими, длинными, гибкими, одетыми в густой лист и потому повислыми книзу. Лишь межевая веселка тонка и нежна, а держится на гибком стебле крепко. Из межевой веселки веник ловок и легок даже сухой и лежалый. Лист не роняет, когда им тряхнут посильнее, и распаривается в горячей воде скоро и мягко. Надо будет глядеть, чтобы не везли глушняк. Растет он близко, по засекам от старых корней, ветки такой березы грубы, бегут кверху, суковаты. И лист грубый, жилистый, на коротких да мелких стеблях. Лежалый такой веник и совсем не годится - тяжел, жесток, не мякнет долго. Да лист роняет легко, беспрестанно летит из веника, льнет к голому телу. А липовый, дубовый и кленовый веник - есть любители и на такое - брать только по лету, сухой и совсем не годится.
Сила Николаевич со всеми бывалыми людьми потолковал - и с Борисовым, что на кондициях тридцать гнезд в аренду взял, и с другими купцами. Те охотно с придворным актером говорили - знатный человек, на свадьбе у него сама царица была. И дивились, зачем это актеру все про бани интересно - и как устроены, и как мыться справно. Наказывали: прежде чем мыться, после, как воды в каменку накидаешь, уравнять пар надобно. Помахать веником, он еще и разогреет одинаково с верхним жарким воздухом. Потом тереть им проворно, припаривать - похлестывать разные места и держать так недолго. А уж потом и помахивать по воздуху, и потирать скоро, и прихлестывать - там и сям, пока зуд совсем перестанет везде и тело разгасится до того, что коснуться веником едва сносно.
Потом, как водится, окатиться всенепременно свежей водой, и только тогда почувствует человек самодовольствие и облегчение. Другие хлещутся веником, а нисколько не трутся им, кричат, просят пару, плохо выпариваются и баней остаются недовольны, и зуд остается. Как бы сильно человек ни стегался в банном пару - ни малейшей боли не будет, а если слышно, как сильно шлепает, так это от воздуха в самом венике - листья кудрявятся и хлопают друг об дружку. А тому, кто хорошо выпарился, безвредно бросаться в реку или снег, нагому отдыхать во дворе - никакой простуды не будет.
И еще важно, собравшись в баню, прежде поесть чего-нибудь, хоть немножко. Да не мочить головы, не обливаться водой - париться надо посуху, потеть же на приступке. А как окачиваться начнет человек после парки, пусть руку прислонит к груди, против сердца - то все и сойдет легко, оно и приятно, и безопасно от простуды, голова не тяжелеет, силы не слабнут и вполне достигается желанная польза и приятное удовольствие от бани. Так искони поступали предки и ныне поступают русские люди.
Не сразу купцы разведали, зачем все это знать надобно придворному актеру. Только когда пруды возле Неглинной стали рыть и каменный, согнутый надвое двухэтажный дом ставить стали, по Москве слух прошел, что Сандунов бани задумал. Успел построить как раз до войны. И хотя Москва пожаром разорена была, баням повезло - уцелели. Вернувшись после изгнания французов домой, Сандунов горевал, видя пожарища, но и радовался: теперь его бани еще прибыльнее станут - в городе все деревянные в огне сгорели.
Все, как задумал Сандунов, так и сделал. Не баня - дворец. Такой и в Петербурге не было. Все по старым правилам и все лучше. Ко всему прочему семейное отделение завел - дорого, нарядно обставленное. Для самых знатных людей. Там серебряные шайки для мытья были припасены - невестам из хороших домов. А первым из серебряной шайки сам князь Юрий Владимирович Долгоруков помылся, главнокомандующий. Очень хвалил! Потом вся богатая Москва пошла в Сандуновские бани, о ней только и разговору было. Хвалили Силу Николаевича, а еще больше Елизавету Семеновну.
Вот тогда-то и пошел нехороший слух, будто бани дареные, а кем дарены - знать надо. К тому же супруги и совсем рассорились - в открытую. Елизавета Семеновна к князю Долгорукову кинулась: построили бани на общий капитал, а записал на свое имя. Знала, к кому обращаться Елизавета Семеновна - благоволил князь к ней. Как-то сказал про нее: "В комнате робка, кажется, стыдится слова вымолвить, а на театре в ней - все жизнь, огонь и прелесть".
Эту похвалу тоже во вред истолковали, но Долгоруков помирил супругов. Однако с трудом и ненадолго. Надоело Силе Николаевичу объяснять людям, что бриллианты царские им на двоих даны, а безбородковские все до единого в Воспитательный дом подарены. И что он получал жалованья чуть не вдвое больше, чем жена, а расходов, наоборот, вдвое больше на нее. Уроки музыки постоянно берет, приехал учитель - пять рублей отдай. И экипаж и наряды - все для нее. И еще как из Петербурга вернулись, четыре года на одно его жалованье жили - не было тогда в Москве оперы.
Однажды после пожара в Петровском театре - дотла сгорел - супругу поносил публично. Тогда все артисты без дела вдруг остались, многие даже без куска хлеба. Сандунов и ввернул словечко, что уж если кого жалеть, то актеров - не актрис же? Кто-то заметил, что вот и у него жена актриса. "Ну и что ж с того? - сказал Сила Николаевич. - Жена сама по себе, а актриса сама по себе: два амплуа - и муж не в убытке". Сам себя оговаривал! То ли тогда, то ли раньше дошел даже до того, что стал бить жену. Вернувшись после гульбы затяжной, не стерпел попреков, кинулся с кулаками. Елизавета Семеновна и убежать не убежала, и, оступившись, ногу повредила. С той поры до конца дней прихрамывала.
Нe стерпела Елизавета Семеновна, бросила все, уехала в Петербург. Внакладе не осталась - четыре тысячи жалованья положили, снова первейшей актрисой признали, хвалили ее все - и свои и иностранные, да жалели, что так долго не видали ее. И думать не думала про брошенного Сандунова и совместные их Сандуновские бани. Ничего хорошего не принесли они ему - только восемь лет и прожил владельцем, а на тот свет даже самых хороших бань не возьмешь.
Елизавета Семеновна прожила еще двенадцать лет, впрочем, другие говорят, что меньше. Перед смертью все простила Силе Николаевичу. Побывала на Лазаревском кладбище на его могиле, видела памятник ему, а на нем стихотворную эпитафию, которую актер сам себе сочинил. Могилу знала вся Москва. Одни говорили - здесь придворный актер похоронен, а другие, помоложе, иначе: знаменитого банщика могила. Здесь в последний раз встретилась с Николаем Николаевичем Сандуновым, профессором гражданского права Московского университета. Вспомнила, еще Сандуновских бань не было, как братья Сандуновы о чем-то заспорили. Оба горячи были. Тут профессор не сдержался: "Толковать нечего - вашу братию всякий может за рубль видеть". - "И то правда, а вашу, законников, без красненькой и не увидишь".
На взяточников судейских намекал.
А когда и где хоронили Елизавету Семеновну Сандунову, никто толком не знал. В 1825-м ли, в 1832-м ли. Много слухов ходило. А главное, о том, что с бриллиантом в гроб и слегла. Не с безбородковским ли? Значит, все-таки один утаила? Потому и просила никому не говорить, где схоронена, чтобы никто на бриллиант опять не позарился, не надругался над могилой.
Тех бань, что строил Сандунов, давно уже нет. Они простояли восемьдесят лет. Их срыли начисто, разобрали по кирпичику из чванства и гордыни. И теперь на том же месте стоят совсем другие бани - тоже Сандуновские. Но это уже другая история...
|
ПОИСК:
|
© BANI-I-SAUNI.RU, 2010-2020
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://bani-i-sauni.ru/ 'Бани и сауны'
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://bani-i-sauni.ru/ 'Бани и сауны'