
Царь бани

Царь бани
Как ни торопил Гонецкий подрядчиков, открыть бани в 1895 году не удалось, хотя каменщики и вывели кирпичом на фасаде эту дату римскими письменами МДСССХСV.
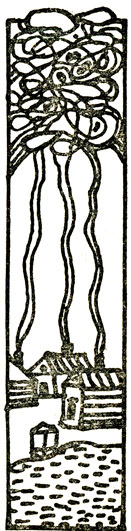
О московских банях
А в Москве ждали новых Сандунов, как праздника. Даже в Петербурге о них говорили. В конце ноября тамошний строительный журнал сообщал: "В Москве, на Неглинном проезде, близится к концу сооружение колоссального здания, предназначенного для торговых бань и других торгово-промышленных учреждений. Постройка этого выдающегося здания началась летом прошлого года и в настоящее время почти уже доведена до конца..."
Номер журнала показал Гонецкому архитектор Калугин, который заменил Фрейденберга. Всем говорили, что немец заболел, поехал на воды, но не было секретом, что архитектор и заказчик рассорились. Фрейденберг жаловался: дескать, несносный человек, сегодня говорит одно, а завтра спрашивает другое. Он еще покажет всем, на что способен: скоро выйдет архитектору такой заказ, такой заказ!.. Только лучшие мастера будут удостоены тем же...
Калугин был послушнее. Не противился, когда хозяин, ради ускорения, приказывал не делать то, что потребовало бы лишнего времени. Калугин не пугал его управой, которая не допустит отступления от проекта.
На это Гонецкий дал однажды свое объяснение: "Дом мой - что хочу, то и ворочу". И все похвалы Кулагин относил на свой счет. Ему нравилось, что писали о новых Сандунах в Петербурге. Словно бы это был проект его, а не предшественника: "Главный фасад представляет из себя очень красивый вид. Это громадное трехэтажное выштукатуренное здание с крупными окнами и тремя красиво скомпонованными куполами. Средний купол расположен над главным вестибюлем, портал вестибюля украшен двумя большими, художественной работы барельефами, изображающими двух коней с женскими фигурами, выпрыгивающими из морской пены..."
Репортер немного наврал. "Выпрыгивающие женщины" были задуманы Фрейденбергом, но их не оказалось, и Гонецкий согласился не на барельефы, а на скульптуры: ангелы, женщины, купидоны. И купол был не над вестибюлем. Репортер писал, глядя на чертежи. Впрочем, и там купол приходился просто над аркой, что вела в арабский дворик. Один бог знает, откуда репортер взял такие сведения.
Но ни Гонецкий, ни Калугин не обиделись на него: пусть пишет. Чем больше будут писать о банях, тем лучше. И все-таки молва была проворнее любых журналов и газет. Без всяких объявлений 14 февраля 1896 года, когда только на пробу затопили котлы, пустили по трубам горячую воду, зажгли повсюду электрический свет, к Сандунам сбежалось народу видимо-невидимо. С баулами, кошелками - видите ли, мыться пришли. Праздничный, взволнованный Алексей Николаевич приказал конторщику:
- Пусть идут!
И те, кто пришел сюда раньше извещения, оказались в выигрыше: помылись в новой бане бесплатно. Одетые плохо сберегли пятак: вольготно плескались даровой водой в пятикопеечном отделении. Тех, кто был одет получше, пустили в десятикопеечное. А знатных господ, в богатых шубах, пригласили в полтинничное.
В этот день в Москве, как и всегда, было много новостей. В музее "Боцва", что в пассаже Попова на Кузнецком мосту, показывали небывалое величайшее чудо природы - мальчика-великана тринадцати лет, весом в десять пудов. Повсюду обсуждали вчерашнее происшествие в Большом театре. Там давали "Демона", пел популярный артист Хохлов. Один из зрителей, студент университета Василий Григорьев, чтобы более показать свое удовлетворение артисту, стал, аплодируя, одной ногой на стул, другой на барьер. Да свалился... с третьего яруса! Чуть не попал в даму, которая только что поднялась, чтобы поближе разглядеть певца, и студент напрочь раздавил ее кресло.
А в квартиру мещанки Купыриной кто-то в сени подбросил младенца-мальчика нескольких дней от роду. Купырина, разглядев находку и разжалобившись, пожелала взять его к себе на воспитание.
А крестьянка, Наталья Кириллова, 25 лет, пришла проведать свою родственницу Михайлову, в доме Попова на Проточном переулке. Уходя, она ловко накинула шубу Михайловой, да не в удачное время - на улице повстречалась с мужем Михайловой. Тот сразу признал шубу жены и отвел воровку в участок.
А в дом купца Изюмова на Калужской улице воры пролезли в каретный сарай и сняли с саней полость. А на Петровке, в магазине модных шляп мадам Шалье, случился пожар. Весь магазин выгорел.
А в слободке Хохловка штабс-капитана Цветаева раздели. Возвращался двором Кулакова из гостей, его окружили обитатели Хитрова рынка, сорвали шапку и пальто сняли. А в нем, в рукаве, было зашито восемьдесят пять рублей.
Но самой главной новостью было все-таки то, что Сандуновские бани опять открылись и стали лучше прежнего. Да что лучше - и сравнить нельзя, так хороши.
Позднее всех новость узнала Вера Ивановна. Очень она рассердилась! Не на то, что муж открыл бани без совета. Все-таки она немножко стыдилась: вот строит дом, где мужчины будут раздеваться догола. И еще того, что там будут номера, в которых первым делом купцы бог знает как безобразничать станут. Вера Ивановна укоряла мужа, что бани открыли не по-людски, без молебна. Только что купцы Эйнем отслужили молебен на новой фабрике английского печенья - хоть и не православные, а сделали все как надо. И так каждый - кто построит дом, кто магазин. Ну как же без молебна - не случилось бы потом чего.
Молебен? Алексей Николаевич брался сделать все за два дня. И сделал!
Веру Ивановну потом одолевали сомнения: а надо ли святить баню? И может ли она не пойти туда?
Обычно на освящение ходят всей семьей - на счастье. Пришлось пойти и ей, и дочери ее и полковника Воронина - Зое Ворониной. Дочь с интересом глядела вокруг, а матери было неловко от того, что служили молебствие в мужской бане, хотя все пришедшие были, конечно, одеты. В готическом зале полтинничного отделения расположился хор. Пригласили чудовских певчих. Священник сказал все, что надо, а хор, что надо, пропел. Потом окропил святой водой раздевальню, мыльню и не жаркую пока еще парилку. Пошли в женские, тридцатикопеечные, в отделение для простого люда, на электростанцию. Вернулись в мужское полтинничное, там в буфетной стояло угощение.
Вера Ивановна с дочерью, бросив приглашенных, уехали на Пречистенку, а муж остался. Вернулся счастливый, красный от пара и вина - и помылся, и выпил:
- Ну, Вера, что за бани мы с тобой построили, - хвастался он. - Что там Хлудовские - туда и ходить не станут. Со мною и Мешков мылся, и братья Смирновы. Очень хвалили, поздравляли.
Вера Ивановна знала братьев-водочников - уже те если говорят, то правду. А Мешков старовер - поди отгадай, что у него на уме?
Новые Сандуны хвалили все. Народ повалил туда, а первым делом купцы. Те ходили, конечно, в полтинничное, а тайком и в номера.
Многие не знали, что третий этаж с мелкими окнами на Неглинный проезд и есть те самые маленькие баньки, где каждый за собой дверь сам запирает. И краны там есть, и ванна, и душ, и маленькая парная даже. Зеркала, мягкие диваны, устланные только что выстиранными гладко глаженными простынями. Хочешь - мойся один, а хочешь - семейство приводи или кого там другого. Народ здесь нелюбопытный - даже не заметят, с кем ты там пришел. Хотите - трите друг друга мочалкой сами, а хочешь - молодца покличь. Уж как почистит!
Только все по порядку. То трехэтажное строение, что фасадом на Неглинку, а боковыми крылами в Звонарский и Сандуновский переулки, почти и не баня. Первый этаж - магазины. Не "Европейский базар" и не "Прогресс", как задумано было, но все равно знаменитые. Один Юлий Генрих Циммерман чего стоит! Рояли, пианино, скрипки, виолончели - всякая там музыка. Даже музыкант, наверное, в ней не разберется. Скажем, ну что такое симфонионы, которые на всю Россию Юлий Генрих Циммерман рекламировал. Поди догадайся, что шкатулка особая, играющая, из Германии от соотечественников хозяином полученная. И по всей России отсюда ноты пошли, Бетховен и песни Вари Паниной - и всюду "Юлий Генрих Циммерман, что в доме Гонецкого па Неглинном проезде". Кто это сообразит, что музыка из бань Сандуновских вышла!
Второй этаж весь в меблированных квартирах. Поскромнее - с переулков, побогаче - с Неглинной. Ах как потом пригодились они - вскоре, в мае, но об этом разговор особый, щекотливый.
А в высоких - в два этажа - воротах земля цветной квадратной плиткой вымощена. Сумрачно в них, а свет идет издалека - за воротами восточное царство начинается. Так и называется - арабский дворик. От неба стеклянная крыша отделяет. Вход через три арки, узорчатые, как в мечети, на тонкие колонны опираются, в темной стене у самого верха - узкие оконца, затейливые и несветлые, с цветными стеклами, как, наверное, в гареме. У крылечка второго дома скульптура мраморная: женщина обнаженная руки вскинула, у ног ее два купидона резвятся. Не Венера ли?
Тут потом часто и про Венеру, и про гарем толковали, оттого что второй дом номерные бани и есть.
Хитро все здесь придумано.
За вестибюлем от главной лестницы идут два коридора. Еще по одной двери - с морозным рисунчатым стеклом. Очень это хорошо - и светло, и не видно, кто там из публики прошел, сделано так неспроста, поскольку "ожидание в непосредственной близости номеров вновь пришедшей публике представляется неудобным и стеснительным". Так говорилось в рекламном проспекте. Немножко туманно, однако для кого надо, оченно ясно...
Одни номера просторны и обставлены роскошно, как царские хоромы, и еще даже пышнее. Но и стоят они так, что не всякий раскошелится, - пять рублей! Ровно столько получал за целый месяц каменщик, что эти бани строил. Таких три номера, а в каждом пять комнат. Раздевальня, гостиная, будуар, баня и парильня. Номера попроще стоили шестьдесят копеек. Но это уже самые простые.
Для мужчин было общее полтинничное отделение - вход туда действительно полтинник стоил. Это уже в третьем доме. В полтинничное входили со Звонарского переулка. Сюда шли охотнее всего компаниями и отдельно, купцы и артисты знаменитые. Здесь иной раз полдня проводили - оттого что есть чем заняться.
Здесь самый нарядный вестибюль. Ковер красный до самой кассы уложен, а касса, как теремок - деревянный, резной. По бокам две бронзовые статуи - мужчины обнаженные держат в руках электрическую гирлянду и мужчинам же светят, чтобы шли - не спотыкались на второй этаж.
А над головой - своды расписные, по стенам картины разрисованы: застенчивые маркизы одиноко по саду роскошному гуляют. Что там за деревья, что там за цветы! И мосточки через пруды, с оградой. Не видно, где маркизина рисованная ограда кончается, а где начинается настоящая металлическая, под перилами, что вверх ведут: узор один. А на втором этаже - золоченые своды, пестрые цветы пылают, по бокам кушеточки стоят, с бахромой, гнутые. "Вестибюль отделан в стиле рококо", - сообщалось в том же проспекте.
Здесь рококо соседствовало с готикой. Открой любую из золоченых дверей и сразу попадешь в сумрачный зал. Черного дуба потолок (или под черный мореный дуб?), стропила резные напоказ, диваны длинные, высокие и двухсторонние, повсюду на спинках и боковичках стрельчатые готические арки нехотя вверх поднимаются.
В строгом готическом зале мужчины до основания разоблачались. Одни на длинных мягких двухсторонних диванах - по два человека в ряд, другие в черного дерева кабинках, также с диванами и с занавесочками от постороннего взгляда. А вдали большая картина. Из мозаики молодой художник Фролов неаполитанский берег изобразил. Рядом - икона. Лампадка денно и нощно светится. Налево над кабинами окна узкие, стрельчатые, разноцветным стеклом набранные. Справа - камин. Хотя и нет в нем нужды - тепло и без него, - с утра до вечера лениво пылает: красиво все-таки...
При готической раздевалке - читальня в стиле ренессанс. Только с книжками там, конечно, не сидели, конспектов не писали. А потом - желтая гостиная - восточный зал. На цветных стенах из цветной майолики письмена уложены. Говорят, знаки арабские, а слова турецкие читать надо справа налево. Означает: "С легким паром вас!" Только за все годы так и не нашлось среди публики турка, чтобы сам прочел: банщики объясняли, всем рассказывали.
Восточный зал, естественно, для некурящих. Две арки с кружевным верхом ведут в него. Потолок и карниз в узорах - места не оставлено без пестрого узора. Диваны там есть. А хочешь - на полу сиди, ковер подостлан. Говорят, на Востоке так и сидят, под себя ноги подбирают. Только за все годы не нашлось человека, чтобы захотел не на диване - на полу на своих ногах сидеть. Банщики все объясняли, всем рассказывали.
Из обоих залов - готического и восточного все одинаково голые шли в мыльню. Просторно, каменные скамейки. На возвышении, как на трибуне, три ванны. Против них - шесть душей. Один бьет сильно, не жалеючи, - для здоровых людей. Второй чуть слабее - для менее здоровых. А шестой и просто едва стекал, мягко и ласково.
Потом другая мыльня, поменьше, но в ней жарче. Там два душа Шарко. Ах и славно бьют со всех сторон, сразу веселее становится - щекотно, смеяться хочется! Из этой мыльни - дверь в сухую баню. Это и есть ирландская. Жарко, как в Африке, - стой и потей, а хочешь, на деревянную лавку садись - не спечешься. Только двигайся осторожно - не то все внутренности, если глубоко дышать станешь, начисто сожжешь. И что хорошего? Правда, похудеешь сразу, но это к чему? Нет ничего лучше, говорят, русской бани, а по-народному - парильни! Она справа от мыльни. В Сандунах парильная лучше, чем повсюду. Зеленым фарфором стены сплошь крыты, на полок идти по ступеням - и не деревянные, да не жаркие. Не оскользнешься - шершавые.
А всего лучше бассейн. Как в римских банях! Оттого и зал называется помпейским.
Зал в помпейском стиле, а стены из мрамора норвежского - потому что, как говорил всем Гонецкий, норвежский не в пример итальянскому особым блеском отличается. Окон нет, а светло, как на улице: крыша сплошь стеклянная, солнце сквозь него видать. В бассейне налито двенадцать тысяч ведер воды. Конечно, не ведрами подавали - вода теплая не стоит, все время вливается и выливается, как в той задачке по арифметике. А куда выливается - никто не спрашивал. Но если спросили бы - не сказали бы, потому что секрет великий. Даже банщики друг другу про эту тайну хозяйскую не говорили. Но о ней потом.
Сначала о том, что сам бассейн со всех сторон и по дну английским фарфором уложен. Чисто и гладко. А мыльня, от которой двери в помпейский зал ведут, и в русскую горячую, и в ирландскую сухую скамеечками каменными на гнутых ножках уставлена. Повсюду краны желтым блеском мигают. То бабы, что в мужском отделении на молебствии были, по всему городу глупость разнесли. Будто здесь краны золотые! "Слышь, кума, из чистого золота вода текеть!" Так неправда: те краны бронзовые, только их каждый божий день толченым кирпичом натирают. И моются тут не в серебряных тазах - чего бабы не наплетут: мельхиоровых. Оттого и блестят. Мельхиоровые - как ножи и вилки, похуже серебряных, но блестят лучше.
А баня для женщин не так хороша. Богатые москвички ходили в тридцатикопеечные. В том же третьем доме, чуть на горочку. Там прихожая, затем комната просторная, по всей длине загородкой поделенная. Из амаранта она и агата (москвичи и слов таких не слыхивали!), а поставлена она для того, чтобы холодный воздух с воли далеко не шел. За ней раздевальня - мягкие диваны. Ковер, портьеры, зеркала - говорят, в стиле Людовика XIV, короля французского. А если и не в том стиле, то поди докажи. Справа арка, на ней лепнина - там зал в стиле другого короля, Людовика XVI. Здесь отдыхают после бани, пот сушат, разговаривают промеж собой. Чего тут не посидеть - мягкие кресла, канапе, ковры, зеркала. А когда платочком обвеваешься, голову вверх закидываешь - и видишь на потолке картину красивую. Настоящий художник рисовал со смешной фамилией - Томашка.
От коридора дверь в мыльню. Для женщин поставлены мраморные скамейки. Бассейн здесь поменьше, хоть тоже фарфором отделан. И еще две комнаты - парильня. Ох как иные бабы стегают себя, не жалея!.. Другая - ванная. Две рядком стоят. Многие люди в жизни ванную не видали, заваливались туда надолго - не выгонишь. Сами рассказывали, что ненароком задремывали в воде, сны хорошие снились. А просыпались только оттого, что озябли.
Люди победнее ходили в десятикопеечное отделение, а самая голь - в пятикопеечное. И все в том же третьем здании. Конечно, там похуже. Лавки и проще и шире - чтобы больше людей могло усесться. В десятикопеечных зато кранов много, а в пятачковом для мужчин - бассейн! Отчего же это в самом дешевом, да вдруг такая роскошь? Отвечали: из-за того, что он на открытом воздухе, во дворике, между глухих каменных стен сделан.
Только это еще не все: никто не знал, никто не подозревал, что вода сюда приходила не совсем чистая - та, в которой богатые люди в полтинничном отделении уже отплескались. Не пропадать же ей совсем, пока она не остынет! Только иногда в тот открытый бассейн вдруг лист березовый приплывет. Откуда бы? Или мочалка вдруг откуда ни возьмись вынырнет. Люди из простонародного отделения удивлялись, да поди догадайся, что ты в нечистой воде полощешься.
Умели хранить хозяйские секреты те банщики, что в самом выгодном месте работали. Туда хотел всякий попасть - услуживать богатым людям, но брали только самых-самых проворных. Щедрые чаевые в полтинничном давали! А в номерах еще больше - потому что там секреты у публики иногда такие, что собственной жене не расскажешь.
Гонецкий постарался, чтобы вся Москва о чудесах новых Сандунов узнала. Нанятым репортерам он советовал побольше писать о грязи в других банях (и то была сущая правда) и напирать на то, как чисты и непорочны Сандуны. Загрязнение их и вообще невозможно, поскольку все в них можно мыть и стирать. Стены фарфоровые, полы лещадные, с уклоном, вода по ним и бежит, так и бежит! И воздух хорош - где это видано: вентиляция. Вентиляция! Это новое слово не всем было понятно. А копоти нет - откуда бы ей здесь взяться; дрова не жгут - кругом пар и электричество. Люди, правда, пуще всего боялись не столько бьющего пара, а электричества, о котором тогда тоже не все слыхали, но Гонецкий велел писать понятно, чтобы узнала даже неграмотная купчиха: паровые котлы помещены в подвалы, под каменными сводами - хоть и взорвется, кирпичи не пробьют. Да и не взорвется. Отверстие сделано, как только соберется пару чуть больше, чем надобно, он сам собой весь выйдет. Так вот придумали... И труб, по которым течет горячая вода, бояться не следует: железные, совершенно безопасные. Но зато от труб этих всюду тепло - даже утром, когда придешь. Они и полы нагревают - приятно босым ходить. Ах, не видал того Петр Федорович Бирюков, король грязных московских бань - не дожил... Глазам своим не поверил бы.
Хозяин особо гордился водою Сандуновских бань. Отсюда выливается целая река - двадцать тысяч ведер в час! Вылить-то просто - рядом под землею Неглинка, а вот как ее добыть, если так много ее надобно? Московский водопровод не мог дать - весь город потребляет шестьдесят тысяч ведер, и ее вечно не хватает. Гонецкий построил свой водопровод! И денег на него не жалел. Мог бы в самом ближнем месте черпать воду из Москвы-реки, но она уже в ту пору грязным-грязна была, в нее вливались мутные стоки. Весной она даже становилась бурой. По совету главного московского водопроводчика Зимина Гонецкий решил брать воду для бань у Бабьегородской плотины. Там река шире - значит, вода быстрее отстаивается. А когда вода падает с плотины, она воздухом насыщается. А главное, все стоки остались ниже - и тот, что вливается от Сивцева Вражка и Неглинки, и, конечно, Яуза - все ниже впадают.
И уж как прозрачна та вода, что потекла от Бабьегородской плотины в бани, но все равно ее хорошенько очистили; особыми фильтрами, привезенными из-за границы, - пластинчатыми, какой-то системы Фишера и Петерса. Никто в Москве не знал толку в фильтрах, а Фишера и Питерса и слыхом не слышали, но поняли, что вещь эта заграничная, а если заграничная, то уж, наверно, хорошая. Сам профессор Ф. Ф. Эрисман из императорского Московского университета пробу сделал. Так и сказал: нет той воды лучше, чем в Сандунах, - хочешь мойся, а хочешь пей. Говорят, при людях и пил. Это банную-то воду!
Люди ходили по Москве и глядели себе под ноги - под улицей отдельный - Сандуновский - водопровод, под землей мимо храма Христа Спасителя, через Пречистенские ворота, под Волхонкой, Моховой, Охотным рядом, Театральной площадью, под тротуаром возле Малого театра, а там и до бани рукой подать. Сколько ж это труб надобно для водопровода этого! А Гонецкий еще и пожарные краны на земле поднял, через каждые пятьдесят саженей. Вот вы, дескать, пожару от Сандунов боялись для банка, так воды получайте, сколько вашей душе угодно. Шесть миллионов ведер по тем трубам в месяц протекает!
Еще больше разговору было в Москве про собственную электрическую станцию Гонецкого. Он приказал повесить в банях тысячу (тысячу!) лампочек накаливания, по шестнадцать (шестнадцать!) свечей каждая, да еще восемь фонарей поставить во дворе. Люди быстренько перемножали - в Москве считать умели! Получалось 16 тысяч без тех фонарей с вольтовой дугой. Богатый человек! Небось каждый день по две свечи и сгорело бы, вот тебе и 32 тысячи без тех фонарей.
Люди, выходя из бань, специально сворачивали в Сандуновский переулок, чуть в горку поднимались поглядеть на электростанцию.
С замиранием заглядывали в окна низенького кирпичного домика. Там что-то гудело, двигалось: добывался свет для бань. Гонецкий свету не жалел - всю ночь палил фонари. А в "Московском листке" как важная новость сообщалось, что Московская дума, хорошенько подумав, решила все-таки разориться и за счет городских средств поставить шесть электрических фонарей на Большом Каменном мосту - три на одну сторону, три - на другую. Но только зажжется тот свет к празднику превеликому, ко дню Коронации.
Об этом празднике писали не иначе как с большой буквы: Коронация. Москва с ума посходила, ожидая торжество, ради которого съедется в первопрестольную весь Петербург. А длиться оно должно было двадцать дней - с 6 по 26 мая 1896.
Первым приехал верховный маршал коронации статс-секретарь Пален, за ним почтительно встреченные прибыли императорские регалии, и в тот же день явился принц Генрих Прусский, а за ними весь двор, жандармы, синод со всей канцелярией, из-за границы короли, князья, премьер-министры. Гофмаршальская часть приготовила для иностранных гостей план Москвы, на нем были четко обозначены Сандуновские бани. А в доме Хлудовых, по плану тому, была только временная резиденция канцелярии государственного контроля.
Алексей Николаевич Гонецкий обратил на то особое внимание своей супруги: на карте обозначены одни только бани, других словно бы и нет. Пусть Хлудовы локти себе кусают. Ах как вовремя они поспели с постройкой! И хорошо, что меблированные квартиры в главном здании не успели сдать. Теперь сдавали их за немалую цену знатным столичным гостям. Не то радовало, что прибыток сразу будет, а то, что в Петербурге сразу все узнают про новые Сандуновские бани. Вот и снова первопрестольная их обскакала.
Сколько толков было когда-то про Егоровские бани в Петербурге - в Большом Казачьем переулке, между Загородним проспектом и Фонтанкой. Вера Ивановна сама видела их - высокие, в пять этажей, а окна темные: пусто и холодно там. Хотел Егоров устроить тоже смесь римско-турецких бань с русскими. И бассейн и номера. Даже ресторан, бильярд, читальню. А вот и не вышло - ни бань, ни ресторана. И смешно сказать, из-за цыганки не вышло. Нагадала, проклятая, что через те бани хозяин смерть примет. Лукавая, что натворила! Уже почти построил их Егоров, да ни разу не затопил - смерти боялся. Десять лет простояли пустые, холодные. Из-за этого разорился и - помер. Честно говоря, славное здание получилось. Знаменитый архитектор Сюзор проект делал, на Парижской выставке его показывал.
Пусть петербургские посмотрят: в Москве хорошие бани есть! Получше Егоровских.
И петербургские смотрели. И в баню заходили. А после бани на балы, банкеты, гулянья ходили.

Сандуновские бани. Фасад парадного корпуса на Неглинной улице. На первых двух этажах размещался музыкальный магазин. На третьем - квартиры. В этом доме № 14 по Неглинной улице (вход с бывш. Звонарского - ныне 2-го Неглинного пер.) на первом этаже в 1901 г. после женитьбы недолго жили А. П. Чехов с О. Л. Книппер-Чеховой
Хлебосольная Москва пир гостям задавала, хвасталась тяжелыми и пышными своими столами. Умела себя показать! Ели-пили всюду. И все - отдельно. В Грановитой палате - царские особы. Для них меню на пергаменте напечатали, в виде свитка - с рисунком Виктора Васнецова. Брат его, Аполлинарий рисовал меню для обеда знати. И другой - для обеда волостных старшин. Отдельно ели духовенство и особы первых двух классов, отдельно - дипломаты. И десять тысяч бесплатных обедов было роздано для тех, кто мог показать билеты, полученные в городском попечительстве для бедных.
Москва умела и повеселить гостей. В Большом театре парадный концерт давали. Так для него программу напечатали в семнадцать красок, не считая позолоты: первый акт "Жизни за царя", потом знаменитые артисты, каждый в отдельности. А для простого народа четыреста тысяч брошюрок отпечатали и бесплатно раздали: как все будет и как все должно быть и что такое коронация, и как ее в старину праздновали.
Их величествам, оказывается, благоугодно будет осчастливить народное гулянье на Ходынском поле своим присутствием. В момент вступления их величеств в царский павильон на шпиле взовьется императорский штандарт, все представление остановится и члены певческих обществ хором исполнят "Славься". А над Ходынским полем в час праздника поднимутся сотни шаров с афишами. Конец гулянья ознаменуется пушечными выстрелами и исполнением "Зари" военными оркестрами, соединенными вместе. А потом вечером на Воробьевых горах начнется большой фейерверк, начало его возвестят пушки и букеты ракет. Фейерверк будет состоять из пятидесяти разных номеров, а в заключение прямо в небе загорится вензель их величеств из десяти тысяч огней.
Очень осчастливлен был народ присутствием их величеств. Хотя все намеченное было исполнено, произошло и нечто другое, вне позолоченной программы, напечатанной многими красками, с завитками и рисунками. При раздаче угощений образовалась давка, сотни людей были растоптаны насмерть, и вечно щедрый царь тут же распорядился выдать каждой пострадавшей семье тысячу рублей за покойника, а если два покойника в семье, то и все две тысячи.
Газеты славили щедрость только что коронованного царя Николая Александровича, как и тот обед, что он дал накануне в Грановитой палате, на котором подавали, кто пожелает, рассольник, а кто захочет - борщок, и стерлядь паровую, и барашка, и заливное из фазана, и жаркое, и каплунов, и салат, и спаржу, и пирожки, а на сладкое фрукты в вине и настоящее московское мороженое.
Алексей Николаевич Гонецкий на полных три недели забыл про свои Сандуны и мотался по городу в поисках петербургских друзей, что служили при дворце. И в поисках новостей. Он умел восхищаться новостями, возбужденно пересказывал вечерами Вере Ивановне все, что слышал. О белой лошади, на которой ехал государь от Петровского дворца до Кремля, и золотой карете государыни, о том, что вместо лакея царю еду самолично подавал князь Трубецкой и что после первого блюда государь изволил спросить пить.
Гонецкий раньше других узнал о том, что произошло на Ходынке, и шепотом, хотя горничных поблизости не было, рассказал, что подавили гораздо больше, чем сообщили власти. Счастливый даже от малой удачи, он не мог долго быть грустным и теперь, когда схлынула с улиц переполнившая их публика, поехал смотреть еще не снятые с домов украшения.
Повсюду висели флаги, а у Тверской заставы на круглых колоннах поставлены были огромные золотые шапки Мономаха - в пять аршин диаметром. Висели лозунги: "Гряди с миром. Москва твоя встречает тебя радостно". Стоял опустевший павильон, в котором венчал царя губернатор, - обитый красным сукном с бахромой, на балконах высоких домов висел лозунг: "Слава царю".
Досадно было Алексею Николаевичу, что его Сандуны оказались все-таки в стороне. Царских дорог было две - от Петровского дворца до Кремля и обратная от Кремля через Охотный ряд и Мясницкую до Каланчевской площади, до Николаевского вокзала. Вот бы украсил Гонецкий свой дом! Получше купца Шаблыкина, обвесившего свой магазин коврами - все стены. Или Морозовой - та зеленью украсила фасад, а посредине московский герб, отороченный горностаевым мехом. Дворники не уходили даже поесть, чтобы никто не позарился на драгоценность. Горностая не было в одежде даже петербургских важных дам, а здесь укутали великий герб, хотя он и не зябнет.
На Лубянской площади Алексей Николаевич столкнулся с открытой каретой, в которой ехал здоровый и счастливый Фрейденберг. Забыв обиду, архитектор окликнул Гонецкого, они минуту постояли конным валетом. Алексей Николаевич поздравил Фрейденберга - все теперь знали тайну, на которую намекал когда-то отстраненный от постройки бань немец: ему вместе с другими именитыми архитекторами поручили украсить Москву для коронационных торжеств. Фрейденбергу достался участок от Лубянской до Красных ворот - вся Мясницкая. Против главного телеграфа тот поставил обелиск все с той же шапкой Мономаха, с лавровой ветвью и склоненными знаменами и обелиск против дома Ворониных, по сторонам от Красных ворот - четыре убранные флагами мачты. Вся Мясницкая была разукрашена с особым усердием и пышностью и чем-то напоминала роскошь полтинничного отделения. О чем бы ни начинал думать Гонецкий, он всегда теперь вспоминал перво-наперво бани.
С архитектором они опять встретились через день па скачках. То было небывалое собрание парадных мундиров, к концу торжеств вся петербургская знать пришла на бега. Все такой же сияющий Фрейденберг поставил на Травиату и выиграл! А Гонецкий проиграл, но не досадовал. Архитектор предлагал:
- Построим кароши палас? Лютче Париж. Или небоскреп? Лютче Нью-Йорк.
После того как праздник кончился и разобрали деревянные павильоны, сняли флаги, Москва стала казаться унылой и сонной. И с окончанием строительства бань все дела у Алексея Николаевича кончились. Он вспоминал вернувшихся в Петербург друзей, стал тосковать. Его озарила идея:
- Верочка! Построим небоскреб? Первый небоскреб в Москве! Сорок этажей!
Он думал не о небоскребе - новое строительство обещало поездки за границу. И деньги. Алексею Николаевичу неожиданно жестоко понадобились деньги: он проигрался в карты. В один из праздничных вечеров, когда отлучался один к друзьям, ставил азартно, но улыбался даже тогда, когда подвели счет. Он должен был играть роль богача. Только что хвастался принадлежащими ему и жене Сандуновскими банями, Петровским пассажем, домом на Арбате с рестораном "Прага", домами в Мерзляковском переулке, на Кузнецком мосту, Поварской, Пречистенке, Тверской...
Вера Ивановна думала недолго, переспросила с иронией:
- Небоскреб?.. Ну что ж, давай построим небоскреб.
И вскоре Алексей Николаевич поехал за опытом в Париж, хотя небоскребов там не было.
У семьи Гонецких было в Москве девять домов, один другого лучше, а жить они стали все-таки в Сандуновских банях - в том трехэтажном здании со скульптурами, которое выходит на Неглинный проезд. Вере Ивановне нравился вид, который открывался из огромного трехстворчатого окна ее кабинета. Весь день проносились экипажи, к вечеру их становилось все больше - хоронясь за прозрачной занавеской, она радовалась, когда видела знакомых. Купец Поляков уже построил свою огромную гостиницу, два здания шли параллельно до Петровки, словно вечно глядели друг на друга, а торцами выходили и на Неглинную, и на Петровку, объединенные металлической решеткой. В ней были ворота, и туда въезжали извозчики с богатыми людьми, гостиница "Россия" была дорогой, с электрическим освещением. Кроме Сандуновских бань, гостиницы "Россия" еще только несколько домов освещались электрическими лампочками. Не только провинциалы, но и многие москвичи ходили посмотреть на окна, которые светились так, будто в комнатах сияло желтое солнце.
Как раз под квартирой Гонецких размещался тихий обувной магазин Писарева. Там не гремели так, как в другой половине дома, где музыканты, прицениваясь к товару Юлия Генриха Циммермана, пробовали рояли и кларнеты, тромбоны и скрипки. Окна спальни выходили на Звонарский переулок. Оттуда смотреть было тоже интересно.
Много раз она видела своего знаменитого жильца, который, женившись, снял у нее большую квартиру - в том же доме 14 на Неглинном проезде в тихом подъезде, который выходит как раз на Звонарский. И жена жильца была известной - молодая и красивая артистка Художественного театра Ольга Книппер. Рассказывали, что муж ее, писатель Антон Павлович Чехов, тяжело болен. И действительно, он редко выходил из дому, гулял по бульвару неспешной, боязливой походкой человека, много времени проводящего в постели.
А вскоре и уехал вовсе. Квартиру сдать было просто - Неглинный проезд стал заселяться людьми богатыми и знатными, про Чехова говорили, что богатым он стал сразу: издатель купил на корню, как покупают лес, все книги. И даже не как лес, потому что лес покупают, когда он вырос, а издатель заодно купил лес, который еще даже не посадили - все книги, которые нестарый Чехов еще напишет.
И тем не менее квартира у Чеховых была небольшой, Вера же Ивановна с мужем занимала одиннадцать комнат. Спальня, кабинет, бильярдная, гостиная, буфет, комнаты лакеев и горничных. Семья ее уменьшилась. Зоя вышла замуж за скрипача Юлия Конюса. Вышла не спросясь, семнадцати лет. Только в последний миг простив, дала она ей материнское благословение и заставила жениха принять православную веру. Молодые жили независимо, зимой - на Пречистенке, в старом родительском доме Фирсановых, летом - в правом флигеле Средниковского дворца, откуда был отдельный ход в парк.
Вера Ивановна все чаще стала оставаться в своей красивой и просторной квартире одна - муж все больше теперь разъезжал. Что-то у него не получалось с небоскребом, и он то и дело наведывался в Париж, а уж в Петербург и вовсе ездил каждый месяц. Что поделаешь - дела...
Только странно было, что дела эти как-то вдруг застряли, не продвигались, а денег требовали все больше и больше. Вера Ивановна денег не жалела, но досадовала, что Алексей Николаевич потерял интерес и к Сандуновским баням, и к дровяным складам, и к торговле строительными материалами. Ну что ж, ей не привыкать - сама принимала управляющих, выслушивала, давала советы. Проще всего было управлять банями, контора рядом - в том подъезде на Звонарском, в котором Чеховы жили. Конторщик Петр Копченков приходил с книгами, говорил цифирью, но знал, что врать нельзя - Вера Ивановна все больше входила в банные дела, узнавала в них толк.
В банях все было просто. Выручку из касс Вера Ивановна брала всю себе. Не каждый день: будет она мелочью собирать! А конторщик принимал от "кусошников" каждый божий день.
В Москве давно знали и не удивлялись чудным банным порядкам: и в дорогих Сандуновских банях служащим жалованья не платили ни копейки! Впрочем, оттого и выгодно было банное дело. Наоборот, служащие платили хозяевам, и отбоя от желающих служить не было. Брали с разбором - все из нескольких рязанских деревень. Деньги малые получали только мальчики. Два рубля в месяц, да две копейки в день на ситничек. То была должность - мальчик. Лет с двенадцати служил он в бане на посылках. То кто-то из купцов забыл белье купить - отправляли с рублем к Альшвангу или на Кузнецкий к Епанешникову и сто раз наказывали, чтобы сдачу не растерял по дороге, завязал в край рубахи и держал подол в руках, пока будет идти. Мальчик скинутое грязное белье подберет, аккуратно в баул положит. Мальчик в лампадку масло зальет. Мальчик за чаем в трактир сбегает - рядом, на другом углу Звонарского и Неглинного проезда. Мальчик весь день не сидел - молодцу помогал.
И это тоже была должность - молодец. Как подрастет мальчик, уму-разуму наберется, так его молодцом работать ставят: простыню развернуть и на мокрого, распаренного посетителя ловко набросить - так, чтобы край на голову попал, но чтобы на лицо не свисал, а потом по спине сильно и ласково три раза шлепнуть. И чтобы вышло звонко, да не больно.
Потом молодец у ног завернутого в простыню посетителя услужливо сядет, придет со свечой и табуреткой, ногу пропаренную в обе руки бережно, словно младенца, возьмет, осмотрит ступню со всех сторон, неслышно мозоли срежет, раскрытой бритвой подошву поскоблит. Ох и любили купцы молодцов за то, что ноги им молодили! За это щедро чаевые кидали, особенно если мозоль ловко снимет. "Кусошники" зорко глядели, кто сколько дал. Их ведь потому "кусошниками" называли, что большой кусок себе с тех чаевых отбирали. Подойдет этакий ласковый, голову почтительно склонит, речи приятные заведет: дескать, не беспокоит? Хорошо ль попарились? А сам глядит, сколько тот бросит молодцу.
Дел у "кусошников" много. Надо еще и за мойщиком посмотреть - хорошо ли тот трет, добрый ли пар поддал, а главное - поглядеть, сколько за ту работу ему кинут.
Почтенные люди сами не мылись - негоже богатому человеку так утруждать себя. Даже сапоги не сбрасывали - мальчик подбегал и нежно тянул. Рубаху с гостя снимал и брюки. Почтенных людей вели под белы руки, дверь в мыльню отворяли: проходи, дескать, гость дорогой, а там укладывали на лавку, обливали перво-наперво теплой водой, разводили в шайке мыло, взбивали пену и терли мочалкой. Кто любит - сердито, кто не любит - ласково.
Купцы желали, чтобы мочалка была грубой, крупной и сурово скребла, кричали: "Крепче!" А вот в парной больше любили стегаться сами - никто так не достанет туда, куда тебе хочется сейчас хлестнуть. И тоже кричали: "Крепче!", "Поддай!" Банщики, конечно, не жалели, поддавали пару. Одни любили париться в сухом пару, другие в квасном, а потом мода пошла и на шампанское. Выстрелят пробкой об потолок, в шайку пена выбежит, и плеснут игривое вино на раскаленные камни. Дух сладкий становится. Только не все любили. Подрядчик Мешков того шампанского духа не выносил. Как только придет, бегут банщики в парную стены обливать, дверь отворяют, хмельной запах выгоняют.
Нравилось купцам в Сандунах больше всего полтинничное. И кругом красиво, и служащие нарядно одеты. Мальчики и молодцы в ластиковой полосатой рубашке из розового прохоровского сатина, пояс шелковый, бордовый, а брюки тоже шелковые, белые. Староста Павел Васильевич Хрулев зорко глядел, чтобы нигде беспорядка не было. Рубашку чтобы часто стирали, чтобы брюки гладкоглаженые были.
Мойщикам лучше всех. Какая у них одежа - фартук клеенчатый спереди, а сзади только завязки со спины свисают. Мокрые - к голому телу липнут. Как завел Гонецкий с первых дней то, что увидел в Будапеште, - так и осталось. Купцы сначала громко смеялись. Дескать, ну и потеха: мужик в бабьем переднике, пузо закрыто, а позади все голое! Потом свыклись, и мойщикам то гривенник, то четвертак давали - потому что самую радость от него получали. "Кусошник" про это, конечно, знал, потому что сам был и мальчиком, и молодцом, и мойщиком, все прошел и потому брал с каждого столько, сколько требуется. В неделю каждого, кроме мальчиков, налогом обкладывал - то пятнадцать рублей возьмет, а то и двадцать. Часть денег себе, другую - хозяйке. Бывало, та спросит Коп-ченкова:
- Что-то к нам народ перестал ходить? Не закрыть ли бани?
Понимал намек Копченков. И следующий раз больше денег отдавал - больше отбирал у молодцов. Сердит был, а уж как ласков с гостем богатым! Всех знал, каждому кланялся. Подрядчику Мешкову ниже всех. Даже перед праздником, когда баня народу полна, держал свободную кабину для него.
Придет какой-нибудь делопроизводитель или инженер, тому на диван простой укажет, потому как, мол, занято кругом, но не беспокойтесь - все равно удовольствие сделаем. Мешков же в припасенную кабину зайдет и тут же мальчика крикнет. Чуйку свою, халат долгополый, сам снимет - очень брезгливый был, дверь не откроет - ручки касаться боялся, других заставлял. Велит мальчику шайку принести, мочалку и мыло, вывернет из кармана горсти монет и мыться идет. Все знали, зачем тут шайка с водой, хотя хозяин в мыльне: деньгам баню устраивали! Мыльной мочалкой тер мальчик мешковские монеты, каждую в отдельности, - любил подрядчик чистые деньги. Потом мальчик каждую монетку оботрет и столбиками сложит - копейки с копейками, пятаки с пятаками. Много мелочи носил с собой Мешков. Мыться приезжал на шарабане. Всегда по пятницам, с утра, в одиннадцать. Об этом все нищие знали, ждали, пока подрядчик моется. Когда сходит с крыльца, все кланяются, дорогу дают, а из шарабана он потом только что умытую мелочь по сторонам кидал. Вначале нищие дрались, бросались за монетами, сильный отбирал у слабого. Мешков сердился, тут же уезжал. Тогда нищие обо всем договорились, старосту промеж собой выбрали: за деньгами бегать, у другого не отнимать - сложить все и поделить поровну. Но только между своими - чужих нищих не пускать. Так и стали делать. Старообрядец Мешков удивлялся: какие благонравные нищие у Сандуновских бань! И стал бросать горстями, больше прежнего.
Молодцы особо жаловали братьев Смирновых и братьев Жирардовых, Сингошина, Голофтеева, Солодовникова - купцов знатных, именитых, тароватых. Ученые люди - инженеры или артисты, - те были скупее, а ведь люди тоже состоятельные.
Инженер Блинов - тот и разговаривал неохотно, свысока. А уж чаевых и совсем не давал, поскольку нигде не сказано, что их следует давать. Сговорившись, молодцы славно проучили его. Пришел Блинов и сам разделся. Веник выбрал покудрявее. Покуда веник отходил в шайке с горячей водой, мойщик исправно потер ему и спину, и ноги, и грудь, и живот. Банщик старался и все беспокоился, не дерет ли мочалка, не горяча ли вода или может барин хочет послабее сделать. Блинов только и говорил, что "хорошо", "да", "нет", и не улыбнется, разговору не поддержит. Не знал инженер, что мальчика послали к Епанешникову на Кузнецкий мост, наказали купить рейтузы бабьи, самые большие, денег дали пятачок - чтобы рейтузы были самые плохие. Как выпарился, молодец его простынкой, принесенной из дому, обсушил, по спине как то положено звонко похлопал. Усадил и ногу инженерову себе на колени взял - мозолей не было, только поскоблил. Одеться помог, на прощанье ласково спросил: "Извольте завернуть?" Надменный инженер почти и не кивнул. Уж не мальчик, а сам молодец мокрое и грязное белье свернул аккуратно и в чемоданчик положил. Ушел тот инженер заносчивый, каким и пришел, не видя кланяющихся служителей в белых куртках и белых штанах, с перепоясанной рубахой навыпуск - только чемоданчиком размахивал. И копейки никому не дал.
А через неделю вернулся вежливый, медяками и серебром всех одаривал. Все равно не как братья Смирновы - те по два рубля оставляли.
Потом долго смеялись во всех отделениях, пальцем в спину Блинова показывали: ловко они проучили его - сказывали, прислуга барыне показала, что за белье из бани принес инженер домой. Говорил, что в баню пошел, парился, в бассейне плавал, а домой поганое дамское белье ненароком притащил. Да широкое - где такую нашел? С тех пор Блинов чаевые давал всегда. Чудак человек, чего же не переменил Сандуновские на хлудовские Центральные? И там бассейн, и там душ разный, а не пошел. Сандуновские привораживали. Бывалый москвич, с деньгами в кармане, оставался верен им, ни на что не менял их, если хоть раз попарился там.
Так случилось и с самым знаменитым человеком в Москве - Федором Ивановичем Шаляпиным. Никто не заметил, как он первый раз явился, а уж потом всегда караулили. Как только придет, все радуются, стараются поглядеть на него. Красив мужчина - богатырь. А уж как запоет - сам говорил, что в бане звонче петь, чем в любом театре. Стены, что ль, в бане такие? И прост со всеми, каждого по имени-отчеству помнил. А в полтинничном отделении одних мойщиков двенадцать и восемь молодцов. Даже мальчиков по батюшке величал. Васятку Митина иначе чем Василий Семенович и не звал, а тогда ему было не больше четырнадцати, так как в баню дядя его, старый московский банщик, привез из деревни в тринадцать лет. Потом, когда уже и молодцом стал - в семнадцать лет, с Шаляпиным, как со старым знакомым, здоровался - за ручку. А как уходил на действительную, тот рубашку подарил ему из китайской чесучи. Косоворотку. Василий Семенович всю жизнь берег, надевал по праздникам, и потому что до восьмидесяти лет оставался прям и строен, рубашка не стала мала до его глубокой старости.
Одно плохо - Шаляпину невмоготу стало мыться и в дорогих полтинничных, хотя там редко когда народу много было.
Как прослышали люди, что ходит Шаляпин по вторникам, сразу стало тесно. Все глядят, проходу не дают, на дармовщину песни хотят послушать. Шаляпин договорился, что будет ходить в баню по воскресеньям, когда никто не ходит. Обычно два раза в неделю в Сандуны не пускали посетителей, хотя топились те круглый год, - по средам и воскресеньям. В те дни и мойщики, и молодцы, и мальчики - все мыли, чистили, скребли полы и лавки, терли медные краны толченым кирпичом, разведенным на мыле, чтобы солнцем горели. Шаляпин приходил не один. Знаменитые люди с ним бывали - артист Художественного театра Москвин, любимец эстрадной публики Борисов, шутник Менделевич - самый забавный конферансье, да еще неизменный шаляпинский спутник Исайка Дворищин. Иной раз семь-восемь человек наберутся и такой шум, смех поднимут. Все банщики приходили, отворяли дверь в мыльную - послушать, как знаменитый артист поет. Потом Шаляпин ехал обедать в "Эрмитаж", оттуда домой. Там он перед дочерью, маленькой Иринкой, хвастался, какого пару он нагнал. Первым Исайка выбегал, отдышаться целый час не мог, потом остальные. И Шаляпин парился один, все подбрасывал пару. Чуть не сгорит, выбежит красный, как рак вареный, и в бассейн с головой нырком. Друзья подтверждали - все верно рассказывал он дочери: продыхнуть невозможно, а он знай поддает и все хлестается, хлестается...
Зять Веры Ивановны Фирсановой скрипач Юлиус Конюс познакомил ее с Шаляпиным, Артист с удивлением глядел на владелицу знаменитых бань. Ему представлялось, что она должна быть дебелой и крикливой, грубой и безграмотной. А она красивым глубоким голосом с восхищением говорила о недавнем его концерте и сделала верное, почти профессиональное замечание. Шаляпин, естественно, похвалил Сандуны: нигде нет таких бань, а уж он Россию объездил. Не Сандуны - царь-бани! Да и за границей бывал - нет ничего похожего на русские бани. Вера Ивановна улыбалась, но разговора о Сандунах не поддержала. Зато Алексей Николаевич стал хвастаться:
- Мы вот еще небоскреб на Арбате построим. Еще не то будет.
Шаляпин внимательно посмотрел на Гонецкого, подумал, но ничего не сказал.
А когда речь зашла о концерте, Гонецкий тоже слово вставил: вот недавно "Прекрасную Елену" в театре Шелапутина смотрел. Так там фортель презабавный выкинули: мужчины женские роли исполняли, а женщины - мужские. Вот смеху-то было!
Шаляпин опять выслушал вежливо, перевел взгляд на Веру Ивановну и, словно Гонецкий ничего не говорил, попросил:
- Можно, я спою?
Дело было в Средникове, гости сидели в гостиной - в овальном зале, на потолке которого резвились голубые боги и демоны. Вера Ивановна почти по-девичьи вспыхнула. Конюс сел за рояль, и Шаляпин запел.
Перед отъездом гости и хозяева обошли имение. Вера Ивановна показывала дом и парк. Пересказывала то, что знала о здешней жизни Лермонтова, о том, как по ее просьбе отец купил Средниково у Столыпиных. Шаляпин слушал внимательно, погладил массивную старинную полированную дверь высотой в два его роста - дверь эта вела в комнату, в которой два лета подряд жил поэт.
- Вы бы ему памятник здесь построили, - предложил Шаляпин, обращаясь только к Вере Ивановне и не глядя на Гонецкого.
Это их и связало: Шаляпин обещал поговорить со знакомыми скульпторами, которые бы взялись сделать памятник.
Так они подружились. Возвращаясь из Петербурга, Шаляпин непременно наведывался то в Средниково, то в дом на Неглинном проезде. Привозил с собой Рахманинова, пели, музицировали. И Вера Ивановна ездила к Шаляпиным на Новинский бульвар, стала крестной только что родившейся дочери.
Шаляпину нравилось Средниково. Он часто гостил там по нескольку дней подряд. Был со всеми прост - с хозяйкой и ее горничными. Однажды прислуга с изумлением увидела, что Шаляпин прибыл с незнакомым человеком, подобного которому здесь никто не видывал: он был совершенно черен, розовыми были только ладони да ногти, и страшно светились глаза. На приехавшего смотрели пораженные из всех окон. Сдержанная Вера Ивановна тоже изумилась гостю. Шаляпин поспешно объяснил, и об этом тут же узнали все слуги: этот негр жил в услужении у какой-то петербургской старушки. Та умерла, и никто из богатых людей не хотел взять его к себе - то ли потому, что боялись его черноты, то ли потому, что негр не понимает по-русски.
Вера Ивановна взяла негра младшим лакеем - хотя имя его было Эдуард, она почему-то назвала его Самбо, говорила с ним по-французски, тот почтительно, втянув живот и наклонив вперед голову, слушал, коротко отвечал. Самбо почему-то никак не мог освоить русскую речь. Вечерами, когда хозяйка читала в постели, он оставался в компании с горничными, был приветлив, смеялся, показывая белые зубы. Знал по-русски только ругательство "сукин сын" и называл им мужчин и женщин.
Самбо больше всех радовался приезду Шаляпина. Тот, приветствуя негра, дружески хлопал его и после обеда просил у Веры Ивановны разрешения взять горничных и лакея кататься на лодке. Позади дома был пруд со старинными каменными мостиками, под них ныряли в темноту и через мгновение выскакивали. Старшая горничная Настя, совсем молоденькая ее помощница Аннушка, Самбо и Шаляпин долго катались. Негр греб, Шаляпин делал вид, что хочет потопить лодку, а девушки неискренне визжали от напускного страха. В награду за испуг Шаляпин пел.
В последнее время он встречал здесь Гонецкого почему-то все реже. Ускользал Алексей Николаевич и от жены. Горничные шептали, что между ними все чаще происходили размолвки. Летом Гонецкий то и дело опаздывал к обеду, который здесь начинался всегда в шесть. Если он был в Москве, за ним на платформу Фирсановская посылали экипаж. Три версты до железной дороги тянулись ровной аллеей. Ее прорубили в лесу по приказу Гонецкого, совсем недлинная дорога, но ехал он по ней долго. Скоро узнали почему: возвращаясь домой, пьяненький Алексей Николаевич все-таки соображал, что лучше бы поскорее протрезветь, и он останавливался у Дворянского моста, кидался в холодную воду, но Вера Ивановна все равно обо всем догадывалась, а может быть, кто-то из верных людей шепнул. Утром Гонецкий был больше меры ласков, ходил след вслед за женой, чувствовалось: извиняется. Развеселив жену, торопился с делом: осталось еще раз поехать в Париж, посмотреть, почему так долго тамошние архитекторы проектируют небоскреб. Вера Ивановна отходила, соглашалась: на расстоянии он был ей милей. Нравилось читать его ласковые письма, в них он смешил ее забавными наблюдениями. О парижской жизни Гонецкий писал подробно. Но жаловался: очень дорога в Париже жизнь. Не пришлет ли она ему рублей пятьсот - семьсот? Неожиданно издержался и не хочет показать себя с плохой стороны - здесь люди очень приметливы и судят о тебе по платью и где обедаешь.
Как раз в этот день, когда пришло очередное письмо с жалобами на парижскую дороговизну, одна из дочерей Хлудова заскочила между делом в дом на Неглинном проезде. Давняя ссора была забыта - самого Хлудова давно уже не было в живых, а Сандуны уже тоже давно построены и Центральные хлудовские бани неизвестно кому принадлежали - шестерым его наследникам, которые вечно ссорились. Гостья только что вернулась из Парижа.
Делая вид, что это говорится вскользь, упомянула Гонецкого, которого она там видела возле одного очень странного места. Он ее не узнал... Она тут же переменила тему разговора, а Вера Ивановна, взяв себя в руки, не расспрашивала и выглядела вполне приветливо. Она поняла, что именно это сообщение было целью неожиданного визита, но порадоваться своей тревоге она гостье не дала.
Потом, однако, навела справки, сама не вмешивалась, не унижаясь. Послала на свои деньги в Париж знакомого студента, наказала только поглядеть на Гонецкого, но ни о чем ему не говорить. Студент оказался верным человеком. Все как надо сделал, все видел, обо всем рассказал.
И Вера Ивановна, перестав посылать деньги, запирала письма мужа в конторке нераспечатанные. Она вдруг в одно мгновение возненавидела его, когда однажды летом приказчик Нифат, посланный в Москву за деньгами к конторщику Сандуновских бань, вернулся смущенный: "Приказчик ответил, что денег нетути, а Сандуны и совсем теперь не ихние, не Гонецкого". Оказалось, что перед последним путешествием за небоскребом Гонецкий заложил бани в кредитном обществе! Взял за них двести тысяч. А стоили они миллиона три!
Только игрок, отчаявшийся, продувшийся вконец игрок, способен был на такое безумие. Вера Ивановна давно уже знала, но не показывала виду, что Гонецкий с тех дней коронации, когда встретил в Москве своих давнишних гвардейских дружков, не переставал крупно картежничать. Она не могла простить ему парижского беспутства, а теперь он вот как обошелся с ее банями. Она даже не знала, что ей так дороги Сандуны, владеть которыми она прежде стыдилась. Когда она подарила их мужу, это было не только награда за старание и желание объявить всему свету, что он ей равен, почти такой же богатый. Каждый, однако, знал, что хотя бани она отдала, но все равно бани оставались за нею, сама правила, рассчитывала неугодных. Вот она даже стала жить там, в доме, принадлежавшем мужу. Так что, прикажете теперь съезжать?
Жарким летом в самые лучшие дни Вера Ивановна бросила именье, поехала в пыльную Москву, металась по чужим домам и отвратительным конторам, в которых пахло затхлым. В ней пробудился делец - ведь она дочь Фирсанова! С ней неотлучно находился присяжный поверенный Виктор Николаевич Лебедев. Он близко к сердцу принял беду Гонецкой, был деятелен, изворотлив. Только они оба знали, чего стоило вернуть Сандуны.
Но им это наконец удалось. В начале сентября 1902 года Лебедев вручил закладную Вере Ивановне. Теперь она спокойно листала бумаги, подписанные мужем. Тот, оказывается, доверял своему присяжному поверенному "получать долгосрочные и краткосрочные ссуды закладными листами или наличными деньгами, кроме ссуды, мною уже полученной под мои торговые бани, называемые Сандуновскими с жилыми и нежилыми при них строениями и землей". Его торговыми банями, называемыми Сандуновскими! Дудки, фигушки - не твои, батюшка, эти бани. Как ей хотелось немедленно высказать все это ему, но Гонецкого не было.
В сентябре было еще тепло, и она вернулась в Средниково. Вот когда пригодился Самбо-Эдуард. Она назначила его своим телохранителем! Отныне он не должен был ей прислуживать - ему полагалось лишь ходить молчаливой черной тенью за ней по пятам, не мешая говорить с людьми или прогуливаться одной, быть близко, но глаза не мозолить. Слава богу, негр не говорит по-русски, не может помешать. Ему и всем слугам она строго наказала: Гонецкого в дом не пускать. Ни в Средникове, ни на Неглинном проезде. Из соседней деревни Лигачево она вдобавок взяла двух самых дюжих парней и приставила их по очереди денно и нощно стоять у ворот.
Однако Гонецкий всех обошел. Он перелез через ограду, вошел с черного хода, которым пользовались только слуги, и ровно в полдень, когда Вера Ивановна, встав с постели, умывалась, предстал перед ней.
- Вера! Почему меня не пускают в дом?
Она не ответила и спокойно вытирала лицо полотенцем.
- Вера! Почему меня не пускают сюда и даже в мой дом на Неглинном?
Вера Ивановна словно бы не слышала его голоса. Не спеша поправила прическу, направилась в кабинет. Слуги, затаив дыхание, наблюдали за ссорой хозяев - те никогда этого не делали публично. Даже когда Алексей Николаевич опаздывал к обеду, возвращался нетрезвым, она никогда не выговаривала ему вслух. Он шел сейчас следом, умолял:
- Я же муж твой!
Тут она не выдержала, сказала, не поворачиваясь:
- У меня мужа нет.
И закрыла за собой полированную огромную, в два человеческих роста, дверь, в которую, говорят, проходил некогда юный Лермонтов. Слышно было, как она торопливо повернула ключ. Через мгновение раздался выстрел. Она не ожидала этого и с грохотом опрокинула туалетный столик. Отбрасывая всех, с криком "сукин сын", к двери ринулся Самбо-Эдуард. Он колотил в нее огромными черными кулаками и орал что-то по-французски. Все поняли одно только слово "мадам".
Через несколько секунд мадам откликнулась. Изменившимся голосом ответила, что жива, но отпирать не стала. Даже когда ей сообщили, что Гонецкий стрелял в себя. Через дверь она спокойно приказала, чтобы вызвали урядника. Не спросила даже, жив ли Алексей Николаевич.
Гонецкий остался жив. На подводе урядник повез его в больницу. С тех пор Вера Ивановна вернула себе девичью фамилию Фирсанова и при ней никто никогда не смел вспоминать Гонецкого. Потом говорили, что Алексей Николаевич умер от раны, но знала ли о его смерти Вера Ивановна, никому известно не было. Все друзья и прислуга делали вид, что Гонецкий никогда не существовал.
Вернувшись с дачи в Москву, Вера Ивановна принялась хозяйствовать в Сандунах сама. И тут же обнаружила, что дело изрядно запущено. Со всей Москвы богатые люди съезжались сюда - в номера и в полтинничное. Иной вечер столько экипажей на Неглинном проезде и в переулках соберется - кучера хозяев терпеливо ждут, словно не баня это, а Большой театр перед окончанием спектакля. Сам городской голова Гучков любил приезжать сюда - на дутых неслышно катил по мостовой. Долго в городской думе командовал. А про прежнего голову - Рукавишникова уже и забывать стали.
Вера Ивановна невзлюбила его с тех пор, когда, стоя за Хлудовыми, мешал строить новые Сандуны. Фирсанова радовалась его неудачам - вздумал было Николаевскую железную дорогу откупить. И откуда деньги только раздобыл! Только не удалось. А в Москве в свою пору чудные порядки вводил. На видных улицах каменные постройки для "необходимости прохожих" приказал ставить. Рассказывал когда-то Гонецкий, что и на Смоленской-Сенной такое строение возвел. Стены покрасили желтым, а поверх кресты белые нарисовали, чтобы издали видать было. Простолюдины, однако, не поняли знака - принимали строение для "необходимости прохожих" за часовню и крестились. Истинно так, крестились.
Грех смеяться, а смешно, и Гонецкого не хочется вспоминать. Только как не вспомнишь его, когда он все-таки в Сандунах все не так сделал. Сразу видно - не купец. Вот богатых гостей много, становится все больше, всех не перечтешь - сразу и надо было для них вход подороже сделать. За гривенником не постоят. Наоборот, друг перед дружкой выставляться будут. Но только поздно теперь: как полтинничное отделение переделаешь - не станут же называть "шестидесятикопеечное"? Такого слова не придумаешь, да и говорить лишнего станут. И управа не позволит: таксу повышать нельзя. А вот с номерами, пожалуй, можно поправить. Вспомнив старые Сандуны, в которых она невестой мылась из серебряной шайки, велела заказать дюжину новых серебряных тазов - старые давно продали, да и не годились - низкие, вода быстро стынет. Приказала, чтобы на шайке вензеля нарисовали. Так и сделали: на боку красиво нарисовали "Сандуновские бани - ВФ", то есть Вера Фирсанова. Из тех тазов самые богатые московские люди и стали мыться, в самых лучших номерах, где и будуар и гостиная. И платили теперь за новую роскошь не пять рублей, как до этого, а десять. Вера Ивановна оказалась права: все равно шли! Десятирублевых номеров и не хватало.
Два раза в неделю в десятирублевые прикатывал купец Подъячев. И когда это он так разбогател - никто того не заметил. Грубый, необразованный - мужик мужиком, а деньги повсюду рассовал, несчитанные. Приходил в номер, мылся сам - никого до себя не допускал. Попарится, похлещется, на кушетке отлежится и кликнет молодца: дескать, зови Дуньку Рябую. Знали все здесь про него наперед. И удивлялись: на кой ему сдалась самая некрасивая из здешних девок? Дунька Рябая на Трубной жила - рядом. Только позови - тут же и прибежит. Только чем дальше, тем Подъячеву Дунька Рябая милее становилась. Стали молодцы этим промышлять. Позовет он Дуньку - сразу пообещают: хорошо, дескать, мигом пришлем. А через десять минут входит один из них и руками разводит:
- Нетути Дуньки Рябой. К тебе в Сокольники поехала.
Вставал раздосадованный Подъячев с белых простыней, шел к брюкам, брошенным на кресло, доставал из кармана десятку:
- Езжай в Сокольники. Извозчика возьми. Только быстро!
Через полчаса являлся молодец обескураженный:
- Не едет Дунька: у тети именины.
Подъячев сердился не на шутку. Шел к брюкам снова, четвертную доставал:
- На! Отдай ей - скажи, чтобы враз была здесь.
А у Дуньки Рябой и тети никакой не было. В Сокольники ж она и не ездила - что ей делать там? И здесь на Неглинной, особенно в Рахмановском переулке, господ сколько угодно. Только не всем она нравилась, а уж больше Подъячева никто ее не любил. Только зачему ему сказывать о том?
Дунька стояла в переулке, подсолнухи лузгала, смеялась, что заставила купца маяться и деньги с него для себя и для банщика выманила. Потом шла через арабский дворик на второй этаж. Бойко отворяла дверь номера с серебряными шайками, где на кушетке нагой богач лежал. Останавливалась в дверях, руку на бедро ставила, сердито спрашивала:
- Звал? А зачем?
Ну не знала, совсем не догадывалась Дунька Рябая, зачем ее купец в номер звал...
Вера Ивановна Фирсанова делала вид, что ей неведомо, во что превратилось ее номерное отделение. Вся Москва знала, а она вот нет. Даже гости из гостиницы напротив, что всю улицу занимает - Петровские линии, об этом слышали. Приедут из Нижнего Новгорода, из Ирбита, Воронежа и сразу скажут: позови, брат, какую-нибудь. Молодец глаза удивленные сделает: дескать, это кого я позвать должен? Никого мы здесь не зовем. А как рубль дадут ему, сразу смягчится, первейшим другом сделается: альбом несет. Альбом с фотографиями в надежном месте лежал. Там девицы с Рахмановского, Трубной, Цветного бульвара. Под фотографией - ни имени, ни номера. Всех их молодцы и так помнили. Ткнет гость пальцем: "вот эту зови" - молодец знает: Манька Лошадь понравилась. Или Фроська Синяя Лента, Глашка Крокодил, Арина Повитуха... Но как ни знал каждую, а все-таки книжку из Мясницкой больницы часто спрашивал - здорова ли, а не то беды потом не оберешься.
Вера Ивановна все больше требовала денег с конторщика за номера. Тот кряхтел, но давал - все равно и ему изрядно оставалось: ох и прибыльное дело были эти Сандуны!
В номера Вера Ивановна не ходила, только в окошко из квартиры на улицу поглядывала, кто это в арабский дворик прикатил. А в другие отделения стала ходить, за порядком смотреть. В женские бани сваливалась как снег на голову - никогда заранее не знаешь, когда явится. То ранним утром - в шесть часов, то среди дня. А в мужские приходила перед открытием - как туда пойдешь, когда они, безобразники, голые на диванах лежат? Плохо все-таки, что некого теперь туда послать. И она опять вспоминала Гонецкого. Но один раз послала своего присяжного повереного Лебедева, чтобы все осмотрел и сказал, чисто ли там, не набросано ли и не озоруют ли, не обирают ли ее банщики. Виктор Николаевич все высмотрел, обо всем доложил. Толковый человек этот Виктор Николаевич, и хозяйственный, и преданный. В банях сначали делали вид, что не знают, кто такой этот присяжный поверенный, а сами давно проведали, что он и есть хозяин. Невенчаный, а хозяйкин хозяин.
Вскоре и Вера Ивановна таиться не стала Поселила его в своей квартире, на дачу с собой брала. С тех пор как Виктор Николаевич Лебедев помог вернуть заложенные Сандуны, он не менялся: был внимателен, услужлив, и жизнь Веры Ивановны стала легче - взял на себя ее заботы. Снова она начала жить барыней. Утром в восемь колокольчиком давала знать о себе, и тут же горничная несла горячее какао. После этого она еще часа четыре проводила в постели. Ставили ей ломберный столик, и она читала или раскладывала пасьянс. В двенадцать снова звонила, шли ее одевать, Вера Ивановна умывалась, завтракала. Потом немного гуляла, две собачки бежали за ней - Кулой и Кика, обе маленькие и обе белые. Очень любила их Вера Ивановна, чесала большим гребнем.
Если жили в городе, после прогулки занималась делами - с управляющими беседовала, а больше всех с Павлом Григорьевичем, который Сандунами заведовал. После обеда гостей принимала, в театр ездила или в гости, немножко читала. Летом управляющие ездили к ней в Средниково. Там она по парку гуляла - одна, с собачками. Виктор Николаевич ей не мешал, в кабинете работал. Любила в пустом парке гулять. Как-то крестьянка ей попалась с полным грибов лукошком. Очень Фирсанова рассердилась:
- Ты чего здесь ходишь? Почему без позволения грибы собираешь?
И опрокинула лукошко, грибы растоптала. Выбежал негр - его никогда видно не было, но он всегда оказывался там, где нужно. Хозяйка ему что-то непонятное сказала, и ту крестьянку Самбо-Эдуард мигом спровадил.
А часто, наоборот, доброй оказывалась - о чем ни спроси, все даст, не пожалеет. Горничная Аннушка набралась смелости и в хороший час рассказала хозяйке, что вот сестра ее, тоже горничная, у богатых людей жила в Малаховке, с художником полюбилась и вот замуж вышла. Всем хорошо, только фамилию никак не запомнишь - Ион, что ли. Так не продаст ли Вера Ивановна ему немножко земли дом построить?
Вера Ивановна пригласила сестру Аннушки с ее художником, а тут Шаляпин вдруг приехал. Оказалось, знает Шаляпин художника, дружески поздоровались, стал обещать:
- Вот увидите, о Константине Александровиче Юоне будут скоро говорить все - очень талантливый художник.
- Юон? - переспросила Вера Ивановна. - А мне говорили Ион.
- Вечно путают, - сказал, улыбнувшись, художник. Был он застенчив, а жена его, сестра Аннушки, оказалась просто красавицей и вела себя барыней. Свободно сидела на кресле, за столом, знала манеры - и не подумаешь, что крестьянка. Сестра ее, младшая горничная, вошла с подносом, каждому мороженое принесла. Жена Юона, не переставая беседовать, непринужденно взяла вазочку, кивнула Аннушке, поблагодарила.
- Константин Александрович, - сказала Вера Ивановна. - На вашем месте я только бы вашу супругу и рисовала. Как Рафаэль Форнарину. Что за прелестное создание!
Супруга художника не смутилась. Фирсанова продала Юону участок земли, дала поближе к усадьбе и много не спросила: по-божески, и, чтобы не обидеть, не совсем дешево. С тех пор молодого художника встречали крестьяне то у деревни Подолино, то у села Лигачева - сидел на треноге, вдаль глядел и рисовал, рисовал. Если Юон художник действительно хороший, как то говорил Шаляпин, то надолго сохранятся парк, лесочки, пруд, поля, овраги, окружавшие Сред-никово, такими, какие они есть у хозяйки всей округи Фирсановой. Говорят, он и хозяйку нарисовал, но портрет куда-то увезли, а куда - горничная не знает.
Может быть, вернется. Вот привезли же бюст Лермонтова - куда-то увозили, говорят, на выставку. Чтобы все люди, кому интересно, видели. Весь дом знал, что как и обещала Шаляпину, заказала она памятник поэту, который и в здешнем парке гулял, и в этом доме жил. Неизвестно, как людям, но только не понравился бюст Фирсановой. Хотела к столетию Лермонтова людей собрать, чтобы они речи тут говорили, чтобы про то газеты написали. Только боялась осрамиться. Будут потом смеяться, говорить что-то про купеческие вкусы.
Недолго после этого хозяевала Фирсанова. К концу семнадцатого года она лакеев отпустила - не потому, что захотела: революция. Куда-то делись негр Самбо-Эдуард и француз Жорж, который возил ее в автомобиле. Неплохо возил - за сорок минут от Фирсановки до Сандунов. А во дворе Сандунов остался сарай-пристройка, называли его странным словом, писали через два "р" - "гарраж". А дворня так и осталась в своих деревнях. Младшая горничная Аннушка незадолго до того вышла замуж, свой дом завела.
Уже в двадцатых годах бывшая горничная Анна Лопатина как-то встретилась с Фирсановой на Арбате. Та спешила, говорила неохотно. Только и сказала, что пока живет в Староконюшенном. А потом узнали - вызвал ее во Францию Шаляпин. Вспомнил все-таки - вместе с невенчаным мужем ее, Виктором Николаевичем Лебедевым, взял. Потом Федор Иванович про них дочери Ирине писал: дескать, вижу Веру Ивановну, живет по-старушечьи, со стариком своим. Со стариком?.. Быстро, однако, время идет.
А в следующем письме просил Шаляпин дочь, чтобы она какого-нибудь крестьянина нашла, который знает, как бани русские ставят. В далеком нарядном краю покупал певец имение и решил на французской земле русские бани поставить. Наверное, вспомнил про Сандуны, если незадолго перед тем писал про бывшую хозяйку Сандунов.
* * *
Старые московские банщики гордятся знакомством со многими выдающимися людьми. Кто только не прошел через Сандуны! В старых Сандунах плескался Пушкин, в новых - почти все видные московские писатели начала века. Существовал обычай гурьбой наведываться в лучшие московские бани, в лютый мороз купаться в теплой воде - тогда еще не было спортивных бассейнов. Но однажды Сандуновские бани заменили Черное море. В них плескалась вся черноморская эскадра боевых кораблей. Это было в 1925 году, задень до демонстрации в Большом театре фильма "Броненосец "Потемкин".
Накануне торжественной премьеры режиссер Сергей Эйзенштейн с ужасом спохватился, что не снял важной сцены. Ему пришла удачная мысль доснять недостающее в Сандуновских банях. На киностудии днем спешно строили макеты кораблей, которые участвовали в съемках фильма. Они были готовы к ночи. И в ту ночь бассейн Сандуновских бань озарился ослепительным светом прожекторов. Операторы ползали по мрамору, помощники режиссера, вооружившись лопатами для сгребания снега, создавали большую волну. Гигантские волны захлестывали эскадру, грозно надвигался на броненосец "Потемкин" девятый вал.
К утру все было закончено, а вечером зрители в первый раз увидели фильм, который снимался в Одессе, на знаменитой лестнице, на Черном море... Никто не знал, что "Броненосец "Потемкин" снимался немножечко и в Сандуновских банях.
* * *
Сандуны, Сандуны... Удивительная у них судьба. Казалось бы, пора им закрыться навсегда: почти у всех теперь баня на дому - ванна. Когда еще газеты писали статьи "Последний день бани!" А последний для Сандунов не приходит. Наоборот - никогда здесь не бывало столько народу, как сейчас. Когда-то в полтинничном отделении за весь день едва сто человек помоется, а нынче столько в очереди перед кассой стоит. Часами ждут на ступеньках, о гнутые старинные поручни опираются и, чтобы время быстрее шло, под светом бронзовых богов-светильников книжки, газеты читают. Светильники те же, и касса на прежнем месте, и те же чугунные балясины под перилами. Маркизы в пышных садах выцвели, но все еще живы, глядят со стен. В целости и сохранности и готический зал в черном дереве, а над ним извергается Везувий. И турецкий зал такой же, и помпейский, с бассейном, только Нептуна с трезубцем сняли. И парная та же, лучшая в Москве парная. Любят в Москве Сандуны. Еще больше прежнего любят.
|
ПОИСК:
|
© BANI-I-SAUNI.RU, 2010-2020
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://bani-i-sauni.ru/ 'Бани и сауны'
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://bani-i-sauni.ru/ 'Бани и сауны'